Новый мир, 2004 № 08 - [9]
Сколько хватает взгляда — снега, снега,
словно в песне военных лет, словно в твоей записке,
по мировой сети пробирающейся впотьмах
в виде импульсов, плюсов, минусов, оговорок.
Разумеется, ты права. Мы утратили Божий страх.
В нашей хартии далеко не сорок
вольностей, а восьмерка, уложенная, как фараон,
на спину, забальзамированная, в пирамиду
встроенная, невыполнимая, как резолюция Ассамблеи ООН.
Мне хорошо — я научился виду
не подавать, помалкивать, попивать портвей.
А тебе? Мерзлое яблоко коричневеет
на обнаженной ветке. Запасливый муравей
спит в коллективной норке и если во что и верит —
то в правоту Лафонтена, хрустальную сферу над
насекомыми хлопотами, над земною осью,
поворачивающейся в космосе так, что угрюмый взгляд
мудреца раздваивается. Безголосье —
слепота — отчаяние — слова не из этого словаря,
не из этой жизни, если угодно, не из
наших розных печалей. По совести говоря,
я, конечно же, каюсь и бодрствую. А надеюсь
ли на помилование — это совсем другая статья,
это другие счеты, да и вино другое —
горше и крепче нынешнего. Сколько же воронья
развелось в округе — и смех и горе,
столько расхристанных гнезд на ветлах с той
оглашенной осени, летучей, дурной, упрямой.
Как настойчиво, с правотою ли, с прямотой,
мышь гомеровская в подполье грызет
итальянский мрамор.
* *
*
...не в горечь и не в поношение скажу: еж, робость, нежность, нож.
Войдешь в ночи, без разрешения, и что-то жалкое споешь —
вот так, без стука и без цели, переступает мой порог
венецианской акварели дрожащий, розовый упрек,
и покоряет чеха немец под барабанный стук сердец,
и плачет нищий иждивенец, творенья бедного венец,
в своем распаханном жилище, и просыпается от тоски,
кряхтит, очки на ощупь ищет (а для чего ему очки —
прощание ли сна измерить? или глухой кошачий страх
с разрядом огнезубым сверить в богоугодных облаках?),
и все лопочет “лейся, лейся” наяде черного дождя,
и все лепечет “не надейся” — и вдруг, в отчаянье отходя
от слабости первоначальной, уже не в силах спорить с ней,
становится светлей, печальней, и сокровенней, и темней.
* *
*
Проснусь, неисправимый грешник, не чая ада или рая,
и, холостяцкий свой скворешник унылым взглядом озирая,
подумаю, что снег, идущий подобно нищему глухому,
привычно жалкий, но поющий о Рождестве, о тяге к дому
светящемуся, все же ближе не к подозрениям, а к надежде,
допустим, на коньки и лыжи, на детство, что родилось прежде
эдема и аида. Если мудрец довольствуется малым,
повеселимся честь по чести над постсоветским сериалом,
когда увидимся, когда не расстанемся, когда иронию
оставим, и опять по пьяни заговорим про постороннее,
и пожалеем древних греков, что в простодушии решили
не видеть смысла в человеках без ареопага на вершине
доледникового олимпа, где боги ссорятся, пируя, —
закурим, и поговорим по-английски, чтобы русский всуе
не употреблять, ведь этот жадный язык — разлука, горе, морок —
не терпит музыки всеядной и оловянных оговорок —
но, выдохшись, опять впадем в него, заснем в обнимку, не рискуя
ничем, под куполом огромного и неизбежного. Такую
ночь не подделаешь, ночь синяя, обученная на ошибках
огней неотвратимых, с инеем на ветках лип, на окнах зыбких.
* *
*
Осень воинственная выставляет шесть тысяч глиняных, беспощадных
солдат
на посмертное поле боя императора. Сколь мускулист, усат
каждый из них — раскос, в стеганом кителе, с глиняным же копьем
в обожженной руке. Почтительнейшим образом подойдем,
восхитимся. Шесть с лишним тысяч, терракотовых, молодых, безо всякой
вины
простодушно закопанных в могильную землю у подножья Великой Стены.
Так называлась свиная тушенка без имбиря, но с чесноком и лавровым
листом,
что в период великой любви меж Цинь-Ши-Хуанди и белым царем
пересекала Амур в контейнерах, на пыхтящих паромах. Чем мы с тобой
за нее расплачивались — ураном ли? юностью? уссурийской морской
травой?
Вероятней всего, ничем. Жестяные банки, ящики, покрывающий их тавот —
для тиранов — пустяк. Пусть о них беспокоится подозрительный счетовод

Жизнь в стране 404 всё больше становится похожей на сюрреалистический кошмар. Марго, неравнодушная активная женщина, наблюдает, как по разным причинам уезжают из страны её родственники и друзья, и пытается найти в прошлом истоки и причины сегодняшних событий. Калейдоскоп наблюдений превратился в этот сборник рассказов, в каждом из которых — целая жизнь.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
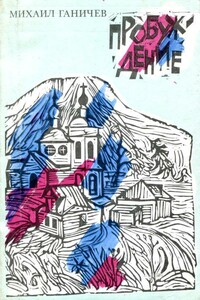
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.
