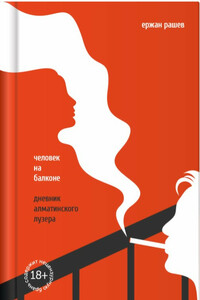— Александровска бе-е-реза…
— Чья береза, чья? — капризно недоумевая, внучка тянет к себе узорную пуховую шаль.
Этой или другой такой же, переданной по оказии, одарит внучатую племянницу после своей кончины двоюродная бабка, когда-то потерявшая придано-о, затем мужа, пароходчика, в самарском ужасе и панике при отступлении-бегстве белочехов или кого-то еще отступлении; спасаясь в мордовском селе от голода, двух дочек от сыпняка похоронит, похоронит в другие годы — другого мужа, не выдержавшего ни бедности, ни чахотки, скрипача из оркестра местного Драмтеатра. Буду прикрывать доставшимся родовым имуществом тогдашнюю неказистость одежды и беременностью вспухающую плоть: через первое обручальное-необручальное колечко легко пролезет оренбургский платок. В здании библиотеки, окнами на оживленную улицу, массивном особняке стиля русского модерна, привычно ругаемом за вычурность и безвкусие, отложив чтение и уже привычно кутая плечи, шагну к овальному окошку и, глядя на березовый узор слежавшихся сугробов, спрошу пожилую служительницу, чей дом был прежде, отчего-то заранее зная ответ и ощущая невнятную причастность, разумеется, не к анфиладе высоких залов и уж не к лестнице же с мраморными ступенями и вестибюлем в псевдодорических колоннах, а скорее к медленному, будто заимствованному движению, с которым гляну на сугробы, натягивая шаль. И крупные правильные черты женского лица предстанут вместе с ушедшим в небытие вечером и тем другим тесным домом с подчердачной столовой, а рваный пожелтевший плат доживет в шкафу и по сю пору, извлекаемый на случай простуды или для угрева вместо обычной грелки.
А Дуся? Что Дуся!
Она наконец-то свободна и уезжает сразу после вторых поминок, где привычно и молча подает на стол и молча же сидит за столом в крахмальном, по обыкновению, фартуке… На остановке трамвая, который по-прежнему ходит теми улицами, сквозь толстое стекло она через много лет окликнет маму голосом, сохранившим былую зычность, да еще рукой постучит, чтоб наверняка обернулась, и мама обернется.
— На мать стала похожа! — крикнет ей Евдокия в окошко, и больше ничего, и уедет теперь-то навсегда, сверкнув золотом вместо прежней стали.
6.
— Насть, а Насть, это Лиз, Насть! — настырно пищат за дверью крохотной Настиной комнатенки.
— Не говори, что ты моя хозяйка! Не говори! — шепотом, это уж Настя велит.
— Какая ж хозяйка? — защищаясь.
— Молчи, а то не приду больше! Скажи, в доме отдыха познакомились — в Кратове, в страхкассе.
Настя сейчас глядится ощетинившейся кошкой, спрыгнет со стремянки, оцарапает приглашенную неумёху, когда та в растопыренных руках держит бумажное полотнище в клею.
— А зовут меня как?
— Как зовут, так зовут. Я тебя им по имени не зову! Артистка — так говорю! — и манерно, растягивая слова и голосом даже не своим:
— Не замкнуто. Входи, Лиза. Мы тут с подругой обои клеим.
Кулацкая дочка, штукатурша и малярша, с больными, как осевшими в щиколотках ногами и лицом расплывшимся, но глаза редкие: зеленые-зеленые, русалочьи и озорные — Анастасия, она же, естественно, Настя — достается через чужие руки: постирать что или пол помыть. Она, так кажется, появляется раз в неделю для интереса не столь денежного, Настя уже не один год в романе со своим начальником — холостым прорабом Марисом, сколь вообще для интереса, поскольку любопытна и востра по-сорочьи. Обманщица, когда скажется, вернее, когда крикнет из единственного в окрестности телефона-автомата — Приду завтра, белье замочи! — точно не приходит. Но чистюля и аккуратистка и каждую весну белит свою хатку, то есть новые обои клеит и красит потолок.
— Не помочь, девочки? — с подозрением вглядываясь в незнакомку, спрашивает рыжая тощая Лиза.
— Не-е, — качает головой Настя, — нам уж и дел не осталось, и ей, — кивает, — пора домой собираться, дочка и муж, а она у меня первый раз, сама к метро поведу.
— Это точно, — соглашается Лиза, — мой тесть тут плутал-плутал. Потом назад вернулся. Смехота!
— Она непьющая, — строго говорит Настя, — не собьется, но все равно отведу. А ты, Лиза, завтра заглядывай, я по бюллютню еще два дня гуляю.
— Настя, — прошу, когда Лиза скрывается за дверью, — может, в четверг постираешь?
— Свидание у меня, не могу. А ты ко мне такой больше не приходи! Я им всем карточку твою показывала. Вот, говорю! И всегда на каблуках, пальто до полу, а парики у ней — артистка!
— Не артистка!
— Все равно артистка. Тебя по той карточке узнать нельзя, какая ты ко мне пришла. Ты приходи такой, как в театр или еще куда, волосы уложи, а можешь в парике.
Опять стучат, но это теперь Настин жених Марис, не то немец, не то латыш, а говорит по-русски чисто.
— Ой, Марис! — кокетливо закидывая круглую головку, говорит Настя. — Проходи, Марис. Садись.
— Здравствуйте! Здравствуй, Настенька!
Настя пухленькая, а немец-латыш еще полней и круглее; он снимает шляпу — начальник — и садится на диван.
— А обои Настенька выбрала отличные, со складу обои.
Мы знакомы. Марис и Настя все собираются пожениться, но свадьба какой раз откладывается. В прошлом году тоже раздумали, но зато по «приглашению» купили Марису плащ, а Насте туфли. Сейчас новый срок — шестнадцатое июня, и опять два билета с голубками в магазин для новобрачных на видном месте перед зеркалом.