Новый мир, 2002 № 08 - [11]
Если звонил домофон — покупатель! она приоткрывала массивную дверь, разом отступая и высовываясь, как птичка из гнездышка. А гнездышко было просторным, фундаментальным, явно в когда-то ведомственном доме для каких-нибудь особых инженеров, особых мозговиков, не главных, но особых руководителей, вряд ли особистов; это в хрущевскую эпоху их селили стадом, а после войны распределяли с равномерностью по возводящимся зданиям в стиле помпезной школы Жолтовского: почти палаццо и колонны под крышей. По ее парижским расчетам, дорого — квартира в таком доме и вид на столицу с восьмого этажа!
Ушедшие в мир иной были хозяйки, не перекати-поле, а от не выдержавшего ее бегства отца оставались сбережения, так что в период отпуска цен женщины запаслись по полной программе, и помимо хрусталя она продавала потекший «Эдельвакс» для натирки полов и пожелтевший «Био»: они шли ящиками — три рубля за штуку, или окаменевший «Лотос», а поскольку и рукодельницы, то залинявшие от стирки вышитые трудолюбивой гладью и не менее трудолюбивым ришелье столовые салфетки, скатерти, полотенца и еще крохотные салфеточки для рюмок, чтобы на скатерти не было следов. Как вы догадались, винные следы пятнали эти салфетки. А еще продавались катушки с нитками и шерсть в клубочках и кофты, связанные из этой шерсти, но и присланные оттуда кофты, сберегаемые женщинами, одной старой, другой стареющей на потом, на потоп, на черный день, и старомодные и не очень сапоги, туфли, тапочки. Много тапочек… Те женщины любили гостей.
И среди всего этого она вставала утром и, облачась в мышиный костюмчик, завтракала на еще не проданной кухне из непроданных чашек; она как-то заранее определила, какую оставить на конец. На финал. Пока не упадет занавес, то есть пока не продаст квартиру, хотя продажа квартиры, особенно в связке со странными людьми, возникшими будто из небытия на ее родине в последнее десятилетие, всякими риэлторами, менеджерами агентств с мистическими названиями, казалась потусторонней; она никогда не принимала этих людей одна, звала соседей или давнишних подружек матери, те ахали, охали, возводили руки, утирали слезы, но каждый раз что-то покупали — заколки-невидимки, ведро эмалированное с крышкой, щетку или все тот же «Эдельвакс».
Сама она была уже почти француженка; ей нравилось, что на французском пишет, куда позвонить и кого ждать; обуглившись там, она не ошарашилась жизнью здесь, и что, спустившись во двор и выйдя через знакомую с пионерского детства арку, по-прежнему саднящую гуталином — дверь в сапожную мастерскую айсоров всегда распахнута, — она купит привычный пармезан к кофе и завтрак маленьких собачек — для своей Мисюсь.
Мисюсь, похожая на шпица узенькой мордой и твердо стоячими ушками, с пушисто-шелковистою шерсткой, черноглазая и вострая, как госпожа, жила у нее с тех пор, как в очередной приезд в отечество скончался от крысиного яда пикинес Чапа. Тогда сразу, нет, не через месяц, не через три дня — сразу же, — она взяла Мисюсь: поехала на Птичку со свойственной ей, но и наследственною энергичностью и взяла. В такси туда она плакала молча; тушь, хотя парижская, расплывалась, глаза пекло, она облизывала сжатые губы и снова плакала, слез не вытирала. Но, расплатившись, припудрила носик и сызнова подвела глаза. И купила Мисюсь. Если бы в ее привычках было догонять ушедшее, она могла бы остановить того таксиста — такси было проблемой, но глаза в щенячьей сизой пленке уже встретились с ее угольками, и теперь вдвоем, она и Мисюсь за пазухой, неспешно побрели к автобусной остановке; слезы все равно текли, Мисюсь делила ее горе: мать и бабка здесь, и пока еще муж парижский — не в счет.
— Эта квартира не стоит столько. Поверьте мне, — сказал он ей почти галантно, обычно грубее говорил. Но тут за ее острыми плечами, не по лету укутанными во что-то трикотажное, серенькое, стояла, видимо, специально приведенная для свидетельства или обороны тощая старуха, смутно напоминающая нечто из школьного кошмара, кожа — географическая карта, в венах, и тревожно взирала расширенными зрачками, теребя брошь у горла. Камея была настоящая, он в этом понимал и представил, как она поползет к себе в какое-нибудь Выхино с тремя пересадками — так решил, или даже в соседний подъезд, ну, на другой этаж, тиская ворот, и брошка расстегнется, конечно, она ее уронит обязательно, потеряет, если в метро — безвозвратно, а тут, в доме, они будут долго искать — обе, старая и молодая, светить фонариком, чиркать спичками, зажигалкой… Но и себя он представил в их вопрошающих глазах — крепкого и с бритым черепом, сильно приподнятого над землею толстыми подошвами необходимо начищенных ботинок, в черной джинсовой тужурочке — такой крутой. Он себе понравился и потому усмехнулся:
— Да здесь один ремонт не меньше двадцати тысяч зеленых. Не меньше.
Она даже не расстроилась — у меня все равно нет документов.
Он опешил.
Она объяснила — забыла. Там.
— Если будет покупатель, слетает. — Это старая сказала строго, ей сказала, и оставила брошь в покое.
— У вас подъезд не в порядке. Надо целиком подъезд брать, — задумался.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Хорошее утро начинается с тишины.Пусть поскрипывают сугробы под ногами прохожих. Пусть шелестят вымороженные, покрытые инеем коричневые листья дуба под окном, упрямо не желая покидать насиженных веток. Пусть булькает батарея у стены – кто-то из домовиков, несомненно обитающих в системе отопления старого дома, полощет там свое барахлишко: буль-буль-буль. И через минуту снова: буль-буль…БАБАХ! За стеной в коридоре что-то шарахнулось, обвалилось, покатилось. Тасик подпрыгнул на кровати…».

Восприятия и размышления жизни, о любви к красоте с поэтической философией и миниатюрами, а также басни, смешарики и изящные рисунки.
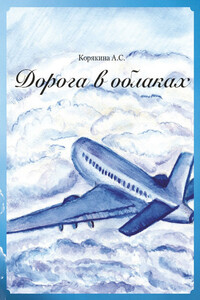
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.

В сборник произведений признанного мастера ужаса Артура Мейчена (1863–1947) вошли роман «Холм грез» и повесть «Белые люди». В романе «Холм грез» юный герой, чью реальность разрывают образы несуществующих миров, откликается на волшебство древнего Уэльса и сжигает себя в том тайном саду, где «каждая роза есть пламя и возврата из которого нет». Поэтичная повесть «Белые люди», пожалуй, одна из самых красивых, виртуозно выстроенных вещей Мейчена, рассказывает о запретном колдовстве и обычаях зловещего ведьминского культа.Артур Мейчен в представлении не нуждается, достаточно будет привести два отзыва на включенные в сборник произведения:В своей рецензии на роман «Холм грёз» лорд Альфред Дуглас писал: «В красоте этой книги есть что-то греховное.

Перевернувшийся в августе 1991 года социальный уклад российской жизни, казалось многим молодым людям, отменяет и бытовавшие прежде нормы человеческих отношений, сами законы существования человека в социуме. Разом изменились представления о том, что такое свобода, честь, достоинство, любовь. Новой абсолютной ценностью жизни сделались деньги. Героине романа «Новая дивная жизнь» (название – аллюзия на известный роман Олдоса Хаксли «О новый дивный мир!»), издававшегося прежде под названием «Амазонка», досталось пройти через многие обольщения наставшего времени, выпало в полной мере испытать на себе все его заблуждения.