Новые полсапожки - [4]
— Подай, Христа ради, голодающим…
Пока она говорила, ее девочка, стоя сбоку, жадными, голодными глазами смотрела на ломоть хлеба, лежавший на мешочке на столе у Ивана Захарыча. Иван Захарыч заметил, как она смотрит, и, зная по опыту, что это значит, молча взял ломоть и, подавая его девочке, сказал:
— На-ка, ягодка, покушай!
— Спасибо тебе, кормилец, — еще ниже поклонившись, сказала баба, а девочка взяла ломоть и сейчас же поднесла его ко рту, жадно впустив в мягкий, душистый край его белые острые зубы.
Иван Захарыч глядел на нее, вспомнил вдруг почему-то свою Феньку и почувствовал, как у него защекотали подступившие к горлу слезы. Человек он был, как уже и говорено, добрый, мягкосердечный, отзывчивый на чужое горе, не понимавший пословицы, что, мол; «сытый голодного не разумеет» или «сытое брюхо к добру глухо».
— Давно ты эдак-то? — спросил он бабу.
— Хожу-то?
— Да. Дальняя, что ли? Откуда? Как ты сюда попала-то?
Баба стала рассказывать долгую, грустную и страшную повесть о том, что она дальняя, с Волги, что у них «божьей немилостью» все выгорело в поле, что есть стало нечего. Рассказывала, как они бились, как, не находя больше никакого выхода, бросили все и пошли куда глаза глядят. Как добрались до Москвы, как муж ее заболел здесь и умер («хоронить было не в чем, завернуть не во что»), оставя ее одну с девочкой, и как она теперь вот ходит, не знамо где, просит и живет, как она выразилась, «хуже последней собаки».
— А ты где-нибудь девочку-то пристроила бы, — сказал, выслушав ее, Иван Захарыч. — В люди бы отдала. Гляди, ишь она у тебя вовсе извелась, вся, разута, раздета.
— Пробовала, батюшка, кормилец, просить. Не берет никто. Кому мы эдакие-то нужны? Смерть моя. Связала она меня по рукам, по ногам. Здоровье мое вовсе плохое, спаси бог, свалюсь, куда ее деть? Об себе-то и не тужу, я стерплю, а ей-то, родной ты мой, тяжко. Дитя ведь еще. Сам ты посуди. Подумай-ка, легко ли?
Она не удержалась, не могла больше говорить и заплакала.
Ивана Захарыча эти слезы и весь вид ихний, в особенности девочки, резнули по сердцу. Жалко ему стало их той особенной, глубокой, захватывающей, человеческой жалостью, которая вместе и терзает сердце, и наталкивает его на все хорошее. Он молчал, но у него уже там где-то, на дне души, кто-то шевелился и шептал ему, что надо делать.
— Мне бы ее хоть на эти дни-то куда девать, — продолжала баба, — на праздник-то на светлый принял бы кто. Ножки бы, кажись, тому расцеловала! Пожила бы, покеда просохнет, а там бы я ее взяла. Наказанье мне с ней. Как ходить-то теперь? Вон она в чем ходит!
Иван Захарыч давно уже видел без этой указки, «в чем она ходит», и вдруг как-то совершенно неожиданно, точно кто-то другой заставил его сделать так, сказал:
— Я, пожалуй, возьму у тебя ее на время, а там увидим, что делать.
И как только он сказал это, сразу почувствовал, точно какая-то гора свалилась с плеч и что душу его заливает какое-то особенное чувство, хочется плакать и смеяться.
Баба повалилась ему в ноги и заплакала.
— Батюшка, отец родной, кормилец, — лепетала она, захлебываясь слезами. — Да не господь ли тебя на нас послал для праздника? Ба-а-тюшка! Кормилец!
IV
Часа через полтора, рассказав бабе, где ей его найти, как называется деревня, как пройти к ней, Иван Захарыч вышел за город уже не один, а с девочкой, с новой дочкой, как он называл ее.
Ноги у девочки обуты были в какие-то рваные калижки, обмотанные грязными мокрыми тряпками. Она хлюпала ими, идя за Иваном Захарычем, и он видел, что идти ей дальнюю дорогу так, как она шла, нельзя.
«Все равно, что босиком идет», — думал он, глядя на нее, и, пройдя верст шесть-семь, не вытерпел, остановился, сел на бережок канавы, где посуше и где грело солнышко, и сказал:
— Ну-ка, садись, разувайся! Надевай-ка, на, эти вот новые-то полсапожки. Ничего им не сделается. Обновляй! А там, дома, увидим, что делать. Не убьют небось! Поругают да бросят. Простуду тебе, что ли, сам-деле, схватить? Это выходит: шуба висит, а шкура дрожит… Обувай-ка!
Девочка послушно и робко стащила с своих ног грязные тряпки вместе с калижками. Обтерла полой ноги и обула новые полсапожки, как раз пришедшиеся ей по ноге.
— Важно-то как! — воскликнул Иван Захарыч. — Ей-богу, чисто вот на тебя сшиты! Идем теперь. Вот, придем, удивятся дома-то! Ждут небось!
Дома его действительно ждали, и Фенька проглядела все глаза, сидя у окошка и глядя на дорогу.
Она первая увидала идущего по дороге со стороны леса Ивана Захарыча и закричала:
— Мамынька, гляди-ка, тятя идет! Не одни идет. Ведет с собой девочку какую-то.
— Ну, болтай там не дело-то! Какую девочку? — сказала мать.
— А эна, гляди. Ей-богу, ведет кого-то!
Мать поглядела в окно и сказала:
— Взаправду ведет кого-то. Может, попутчица какая.
Между тем, пока они делали разные предположения относительно того, кто это идет с ним, Иван Захарыч подходил к избе и знал, что ему сейчас попадет. Девочка, робея, маленькими шажками следовала за ним.
Подойдя к избе, он пропустил девочку на крыльцо вперед, вошел с ней на мост и, отворив дверь в избу, пропустил опять девочку вперед через порог и вошел в избу.
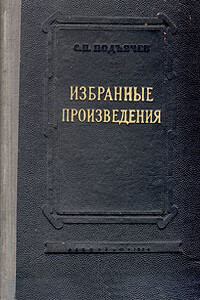
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
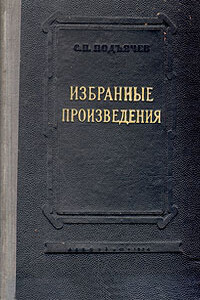
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
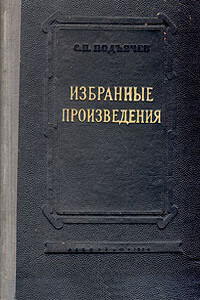
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
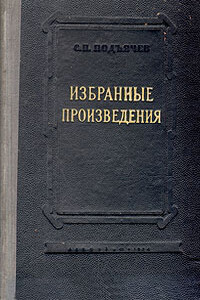
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
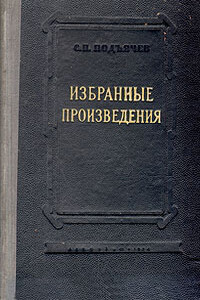
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
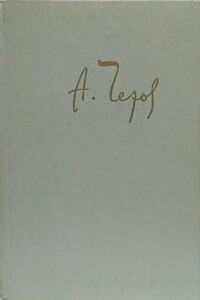
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.