Новые друзья - [4]
– Ну, сойди же, – свирепо выговорил Серёжа, тряхнув волосами. – Чего, как петух, рот разинул?
Я никогда не слыхал, чтобы петух рот разевал. Скорее это можно было сказать о вороне. И это показалось таким странным, что забыв о своём невыгодном положении, я рассмеялся.
– Он ещё смеётся! – с негодованием выговорил Серёжа.
– Он смеётся… – с удивлением повторила девочка и вдруг, не выдержав, засмеялась за мной, вероятно поражённая моим изумлённым лицом. Будто птицы запели где-то.
Я, почувствовав, что лёд сломан, лёг у «котла» животом к земле и покатился вниз, как это делал со Стёпой, желая непременно удариться о камень, на котором сидела девочка. Когда, испачканный, взъерошенный, я предстал пред ними, смех, как по волшебству, прекратился. Я вскочил на ноги, и первое, что мне бросилось в глаза, были окурки от папирос и куча обгоревших спичек.
– Вот как, – подумал я, не подавая вида, что узнал тайну Коли.
– Теперь рассказывайте, зачем пришли, – произнесла девочка.
– Я только что встретил Стёпу, – ответил я, глядя на Колю…
– Слыхал, дальше, – нетерпеливо перебил он меня.
– Кто это Стёпа, Николай? – зазвенела девочка, – и все её ленточки задвигались.
– Передай-ка мне спички, Николай, – произнёс Сергей, обращаясь к Коле и, посмотрев на меня, строго спросил:
– Юдить не будешь?
Я посмотрел на него благоговейно, покорно. Я ничего не понимал, сбитый с толку. Почему они называли друг друга Сергеем, Николаем, – будто были взрослыми. Почему они курили; ведь отец растерзал бы Колю, если бы узнал об этом.
– Да он совсем дурачок какой-то; правда, Настенька? – выговорил Сергей. – Юдить не будешь? – опять строго спросил он у меня.
– Я тоже буду курить, – храбро отозвался я, задетый, – и… это не хорошо, что вы говорите про меня…
У меня дрожали губы от волнения, и я едва разбирал, что говорю. Как будто говорил кто-то другой, а я прислушивался и пугался.
– Ну, коли ты такой, – одобрительно отозвался Сергей, – садись с нами; устраивайся, – повторил он, – я тебя «амо», и мы с Настенькой будем тебя «амаре».
– Вот видишь, – пробормотал Коля, точно я был не согласен, – какие они славные… «Амо» – значит люблю; они тебя любят уже.
– Я буду курить, – с упоением говорил я, устраиваясь подле Настеньки, – честное слово.
Коля вынул из кармана папироску с длинным мундштуком и, стараясь миновать мои глаза, независимым жестом закурил у Сергея.
– Тебя зовут Павлом, – сказал Сергей, и я, поражённый таким именем, машинально пробормотал, – нет, Павочкой.
– Павлом, – упрямо повторял Сергей, сверкнув глазами. – Бери папиросу.
Я не успел сделать жеста, как он раскрыл мне рот, вставил между зубами папироску и поднёс зажжённую спичку. Сердце у меня как будто оборвалось. Даже Настенька поднялась, чтобы лучше разглядеть, что произойдёт. Все предметы отодвинулись от меня и как бы покрылись туманом. И оттуда, из этого мутного места, выскочил густой повелительный голос и жужжа пошёл на меня.
– Втяни дым через мундштук, – смотри, как я делаю. Тяни! – кричал голос, – раз, два, – глотай. Ну, и хорошо. Молодец!
Я поперхнулся, будто проглотил раскалённое железо или кулак Сергея. Рвануло в груди, в плечах, и я длинно гадко закашлялся. Огненные искры полетели у меня из глаз. По лицу потекли слёзы.
– Ничего, – бормотал я, готовый на всё для Сергея, – ничего.
– Молодец, – говорил из тумана его голос. – Кашляй, это чудесно.
И, приговаривая, он бил меня по затылку с такой силой, точно я его укусил, и ему нужно было меня наказать, чтобы я всю жизнь помнил. Настенька певуче смеялась и оттого, что кружилась моя голова, и раздавался её смех, я вне себя крикнул:
– Я ещё лучше затянусь! Вот смотри, Сергей – гляди, Настенька.
И дрожащими руками своими, прыгавшими, как в судороге, с неукротимым желанием отличиться и показать, что я самый чудесный товарищ, я подряд несколько раз втянул едкий дым. Грудь моя запылала. Ноги похолодели. Казалось, «котёл» заходил…
– Довольно, – скомандовал Сергей, – молодец…
Я вдруг схватил его руку, на миг помедлил, сделать ли, – и внезапно, неожиданно для самого себя, поднёс её к губам и жадно поцеловал несколько раз.
– Я безумно люблю тебя! – хотелось мне кричать…
– Ну, однако… какой ты, – застыдился Сергей, неловко высвободив свою руку. – Руку целуют у попов или… у женщин. Целуй у неё…
– Целуй, – он должен поцеловать её руку! – вскричал Коля, махая папиросой, как пьяный.
Настенька засмеялась. Я стоял сконфуженный тем, что уже сделал, и не зная, как отнестись к тому, что от меня требовали. Я посмотрел на неё. Её ленточки кивали мне ласково и как будто звали коснуться их губами. Красивые коралловые чётки невинной змейкой дважды переплелись вокруг её тоненькой шейки, и манили своим матовым безмятежным блеском. Мне стало стыдно… до боли. Но, как пьяный, который на миг отрезвляется, чтобы потом ещё больше отдаться своей весёлой воле, я быстро придвинулся к ней и поднял руку. Она стояла, чуть наклонив голову, чуть дыша, и ждала.
– Не так! – прорычал Сергей, дав мне по затылку. – Становись на колени.
Я взглянул вверх. Как хорошо было небо своей синей красотой без одного пятнышка, холодное… ясное, как хрусталь. Чуден был запах «котла», запах сгнивших трав, и от него на миг вспомнились, проснулись и ожили далёкие дни самого раннего детства, когда бабушка водила меня за руку. Господи, как хороши были близкие голоса, которые я слышал! Смешалось что-то во мне, и то неясное, что томило меня в последние дни, и страхи, и вопросы о жизни и смерти, о правде, всё сошлось и слилось в невинном образе девочки. Она стояла против меня, чуть наклонив голову, чуть дыша, протянув руку с длинными пальчиками, и если бы бездна лежала у моих ног, и если бы колени мои должны были коснуться этой бездны и унести меня навсегда из мира, – а она стояла бы у края её и ждала, как теперь, – я бы спокойно покорился.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
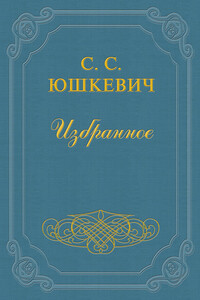
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».
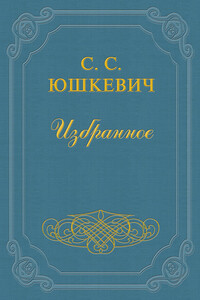
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
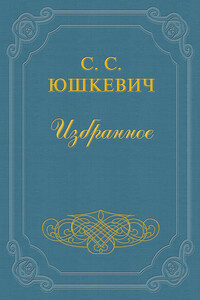
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
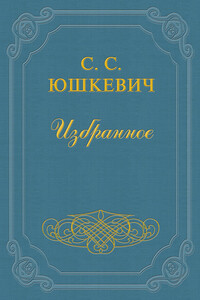
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».
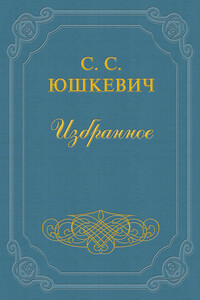
«Осень! Осень!.. Как сейчас вижу эти однокрасочные мрачные дни, в которых как бы несётся тревога с хмурого утра до тёмной неприветливой ночи. Для меня – всё в ней скорбно! Вот стою у окна своей детской, оглядываю длинный, широкий двор и чувствую печаль и в ветре и в дожде, и кажется, что непроницаемые тучи не то стоят, не то движутся покорно терпеливо, словно труднобольные. Отовсюду мне слышатся вздыхания, ропот. Струи дождя, точно длинные змеи, падают во двор, расползаются по земле, бьют голубей на голубятне…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
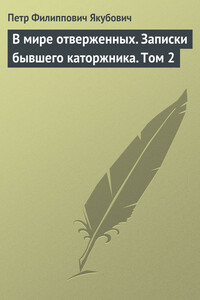
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
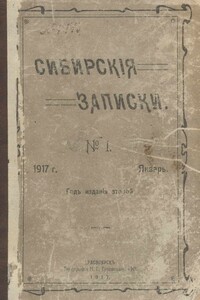
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.