«Новое искусство» - [8]
У самого Ницше, который неоднократно пытался начертать образ сверхчеловека, этот сверхчеловек получал каждый раз особенный облик. Иногда сверхчеловек у Ницше является в виде «белокурого зверя», кровожадного, коварного хищника, безжалостно угнетающего слабых, наслаждающегося их страданиями, подобно тому, как первобытный дикарь наслаждается страданиями побежденных врагов. Иногда сверхчеловек представляется воображению Ницше мудрым философом-анахоретом, всесторонне развитым, всеведущим, носителем неограниченной духовной власти. О последней разновидности сверхчеловека особенно часто говорил Ницше, он составил подробный кодекс морали, долженствующий служить для руководства в деле воспитания будущего сверхчеловека-философа.
Этому сверхчеловеку-философу отдает г. Мережковский пальму первенства перед другими разновидностями сверхчеловеческого типа.
Он делает сравнение трех представителей сверхчеловеческого начала. Коварный хищник, романский тиран Цезарь Борджиа руководится всецело слепым инстинктом, не знающим никаких преград и никаких пределов власти. Макиавелли – сверхчеловек в области политики, исследователь «законов естественных», управляющих жизнью всякого народа, находящихся вне человеческой воли, вне зла и добра». Леонардо да Винчи – эстетик-мыслитель, бесстрастный ученый, отожествляющий «совершенное знание» с «совершенной верой» с «любовью», пытающийся гармонично сочетать «действительность» с «созерцанием». Устами Леонардо да Винчи г. Мережковский произносит приговор над этими разновидностями сверхчеловека: «Мне кажется, не тот свободен, кто, подобно Цезарю, смеет все, потому что не знает и не любит, а тот, кто смеет, потому что знает и любит все. Только такой свободой люди победят зло и добро, верх и низ, все пределы и пределы земные, все тяжести, станут, как боги, и – полетят»…
Лица же, подобные Макиавелли, не одержат победы и не будут властвовать, подобно богам, потому что их знание есть ненависть, а не любовь.
Итак, победа не за «белокурым зверем», а за мыслителем. И этот мыслитель, на закате своих дней, влача жизнь бездомного скитальца, увидевши гибель наиболее дорогих ему надежд и творений, все-таки уверенный в торжестве своих начинаний, остается чужд всякого пессимизма.
Сравнивая с жизнью двух людей, Моро и Цезаря, полной великого действия и промелькнувшей, как тень без следа, свою собственную жизнь, полную великого созерцания, Леонардо находил ее менее бесплодной и не роптал на судьбу.
Как не прожил свою небесплодную жизнь герой «великого созерцания»? Он жил по правилам, строго определенным в кодексе Фридриха Ницше. В этом кодексе значится: «Каждый избранный человек инстинктивно стремится в свою крепость, в свое уединение, где он избавлен от толпы» [13]
«Философы и друзья, берегитесь мученичества! Берегитесь страдания «правды ради»! Берегитесь самозащиты! У вашей совести отнимается всякая ненависть и тонкое беспристрастие, вы тупеете. Вы становитесь зверьми, если вы в борьбе с опасностями, с поношениями, опозорениями, изгнанием и другими еще худшими проявлениями вражды, должны разыгрывать роль защитников истины на земле: как будто «истина» такая наивная и неповоротливая особа, которая нуждается в защитниках!.. Лучше уйдите прочь! Бегите в потаенное уединение! Наденьте маску: пусть вас не узнают! Или пусть вас немного бояться! И не забывайте о саде, о саде с золотой оградой! И окружите себя людьми, которые будут подобны саду!» [14] .
Леонардо да Винчи исполнил эти предписания в точности. Он совершенно изолировал себя от толпы. Он чужд всех ее интересов, он не доступен ее настроениям. Толпа потрясена пламенной речью Савонаролы; кругом Леонардо да Винчи тысячи голосов повторяют: «!!!!!!!!!», несется покаянный вопль народа, сливаясь с многоголосым ревом и гулом органа, потрясая землю, каменные столбы и своды Собора», – Леонардо, чуждый всем, один сохраняет совершенное спокойствие и рисует голову проповедника. В Милане идет бой между итальянцами и французами, летят ядра, пылают дома, люди, как черные тени, снуют, мечутся «обуянные ужасом». Один Леонардо не принимает участия в общей тревоге. Он думает о только что сделанном им открытии закона механики – угол падения равен угу отражения. И в блеске огня, в криках толпы, в гуле набата, в грохоте пушек он видит лишь «тихие волны звуков и света», колеблющиеся и расходящиеся согласно требованиям этого закона. Мимо Леонардо проходят исторические события, кипит борьба партий, сменяются политические формы. Леонардо равнодушен решительно ко всем политическим и социальным вопросам. Как настоящий ницшевский сверхчеловек-философ, он отказывается от всякого единения «с бессмысленной чернью», от всякого желания вникнуть в интересы толпы. Он не спрашивает себя, чьим интересам он служит, он не знает, что такое политическая измена: сегодня он исполняет поручения флорентийского республиканского правительства, завтра он, по повелению злейшего врача Флоренции – Цезаря Борджиа, снимает планы с флорентийских крепостей. Мало того, исполненный глубокого презрения к толпе, он создает чудовищные планы, например, план города с двухъярусными улицами – верхними для благородных, нижними – для «черни, вьючных животных и нечистот», план города, «построенного согласно с точным знанием законов природы, но для таких существ, у которых совесть не смущается перед вопиющим неравенством, разделением на избранников и отверженных»…

«…С изумительной последовательностью г. Соловьев прибегает к таким полемическим приемам, к каким, насколько нам известно, не позволял себе прибегать ни один из литераторов, сколько-нибудь дорожащий своим сотрудничеством в «далеко не худших изданиях». …».

«…Интеллигенция начала XIX века, напротив, не блещет пестротой своих костюмов. Интеллигент-разночинец перестает на время играть видную роль, теряется на время в толпе интеллигентов-дворян. Если он изредка и заявляет о своем существовании, то должен делать это робко, подделываясь под общий тон и вкусы доминирующей интеллигенции; в противном случае, даже наиболее прогрессивные писателей окрестят его презрительной кличкой «семинариста» или «торгаша».Мы не будем вскрывать здесь тех причин, которые создали новую интеллигенцию…».

«… действительно, по общему характеру своего миросозерцания, по общему направлению своей литературной деятельности, по тем художественным приемам, которыми он пользуется при передаче «жизненных фактов» – Чехов является кровным сыном восьмидесятых годов.Эти года для передовой русской интеллигенции были эпохой резкого «перелома». «Перелом» был вызван, с одной стороны, тем, что народился новый тип интеллигенции, а с другой стороны, тем, что новонародившаяся интеллигенция столкнулась лицом к лицу с новой общественной группой, вращавшей колесо истории.

«Вычурно разукрашенная ваза; она расколота пополам, но половины ее соединены и скреплены старой, перегнивающей веревкой. В вазе пустили побеги лесные фиалки. Нарядная, массивная античная колонна; она брошена на землю и разбита. Обломки колонны покрыты дикими полевыми цветами.Лет десять тому назад подобного рода рисунки и виньетки неизменно красовались на заглавных листах и страницах западно-европейских художественных журналов, взявших под свое покровительство «новое искусство» …».

«Герои рассказов и повестей Максима Горького привлекли к себе всеобщее внимание, как люди, облеченные необычной душевной силой, как герои железной воли и энергии, как носители «сверхчеловеческого начала», как своеобразные «ницшеанские» натуры. Оборотная сторона медали – драматический момент их существования, их душевная драма как бы остались в тени. А между тем, чтобы по достоинству оценить сущность их «сверхчеловеческих» стремлений и порывов, необходимо, прежде всего, понять сущность их душевной драмы.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
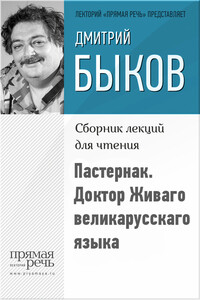
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

