Новеллы и повести - [116]
То же самое происходило сегодня.
И вдруг он услышал, что дверь соседней камеры отпирают — соседа вывели, шаги затихли где-то в глубине коридора. Он ощутил острую жалость, совесть горько упрекала его: как можно было не поддержать человека в столь страшный час, не найти доброго слова, не высказать сочувствия? А теперь ничего уже не поправишь, теперь его забрали, он ушел навстречу своей одинокой смерти. Однако через несколько минут соседа привели обратно. Стук в стену, громкий, радостный: не повесят, заменили каторгой, да здравствует Скалон![40] Помилованный долго еще стучал, все никак не мог успокоиться. Но, не получив ответа, в конце концов умолк.
С этого вечера началась в нем напряженная внутренняя жизнь, а вернее, она, будто родник, пробилась на поверхность из глубин, где до сих пор дремала. Отныне все, что он читал, воспринималось им иначе. Книги попадались веселые и грустные, занимательные и скучные, великолепные и неудачные — разные книги, но неизменно к их содержанию примешивалась особенная, незнакомая и вместе с тем очень созвучная ему нота. Какая-то тень падала на страницы, мелькали между строк отрывочные, неясные фразы. Душа его стремилась найти что-то важное, необходимое среди хаоса мыслей и образов, возникавших из книг, искала желанного слова, героя, автора, но тщетно. Ничего не мог он извлечь из выдуманных человеческих судеб. Не встречал ни одного писателя, который бы почувствовал, угадал, что ему нужно. Спокойное, приятное, бездумное чтение кончилось.
В это время как раз шла генеральная репетиция последней комедии — суда. Следственная комиссия засыпала его ворохами бумаг — документов и свидетельских показаний. Там содержалось несколько фактов, действительно имевших место; их вполне хватило бы суду. Остальные же обвинения представляли сплошной вымысел, фантастический бред, однако весьма четко и официально сформулированный и занесенный в протокол. Отвечая комиссии, он повторил снова, что все сказанное им ранее остается в силе и никаких новых показаний он давать не будет. Тогда в зал стали вводить одного за другим профессиональных сыщиков, полицейских, солдат. Появились какие-то жалкие людишки, которые покупали свободу, напуская на себя вид опытных провокаторов. Наконец прошли чередой истинные предатели, спокойные и наглые. Вся эта орава возводила на него чудовищные поклепы; одни якобы признавали в нем участника громких убийств, другие сваливали на него различные преступления. Третьи заявляли коротко: не знаю, не узнаю, не видел. Он выслушал все это с интересом. Он уже имел три фамилии, состоял в двух партиях, бывал одновременно в нескольких местах. Самое удивительное, что, как оказалось, никто из доносчиков его в действительности не знал. Последней ввели пожилую женщину, бедно одетую, один рукав у нее был пустой. Он узнал ее сразу, даже вспомнил фамилию, ведь о том случае, когда его отбили у конвоя, писали в газетах. Ему стало жаль женщину: в суматохе она была ранена, — значит серьезно. Лишилась руки. Да, это она, та самая. Вдова, прачка — теперь уже не может стирать. На какие средства живет, кто ей помогает? Он все время смотрел на нее, и она смотрела на него печальным, усталым взглядом, словно бы хотела рассказать о чем-то. О том, что его узнала, что помнит? О причиненном ей зле, о нищете, о голодных детях?
— Ну, отвечай, это был он? Тот, что сидит здесь, был там? Стрелял?
— Нет.
— Гляди лучше!.
— Нет!
— На допросе ты показала, что тот был высокий, и этот высокий, что тот был черноволосый, и этот брюнет, что тот там распоряжался, и это верно, он у них руководитель. Ну, говори, говори правду, с военным судом не шутят.
— Нет.
— Тебе прострелили руку!
— Нет, этого господина там не было.
— Клянешься под присягой?
— Клянусь.
— Вывести!
— Это уже все? — спросил он. — Мне можно идти?
— О нет, мы должны еще поговорить. Если вы намерены сами себя погубить, то наша обязанность — спасти вас. Нельзя же так. Правда, вы натворили дел, но все можно исправить. Жизнь тоже чего-нибудь стоит.
— К чему разводить философию, господин полковник? Не всякий ведь согласится служить в охранке.
— Что вы! Об этом не может быть речи! — обиженно возразил полковник. — Но отдаете ли вы себе отчет в том, что вас наверняка повесят и что не будет ни кассации, ни помилования? Я не запугиваю, я лишь констатирую факты. Столько доказательств виновности…
— Я знал об этом прежде, чем господин полковник соизволил…
— Тем лучше. Итак — только смерть. Но если захотите — будет жизнь. И не каторга, а свободная жизнь. Вам вольно смеяться, но сказать об этом я обязан. Вероятно, это противоречит закону, однако в порядке исключения, поскольку вам многое известно…
Тогда он поднялся с места, оперся руками о стол и бросил им в лицо несколько оскорбительных и грубых слов. Они восприняли это спокойно, с любезной даже улыбкой, как будто слышали такое уже не раз и считали подобное поведение совершенно естественным. Потом, невзирая на то, что он не удостаивал их ответом, они продолжали засыпать его вопросами. Угрожали, льстили, давали заманчивые обещания, пытались вовлечь в разговор, упорно стремились достичь цели. Они без устали расспрашивали его, интересовались подробностями. Это длилось долго, но они не отпускали его, а когда он пошел к дверям, дорогу ему преградили два жандарма. Снова любезности, восхищение его мужеством и вопросы, вопросы — все о каких-то пустяках; потом предложили дополнить показания. У него начала кружиться голова — ему казалось, что он среди сумасшедших. Они все-таки добились своего: он не выдержал и стал отвечать.
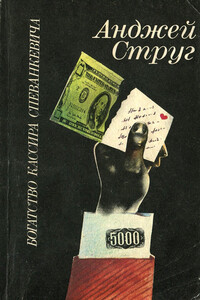
«Богатство кассира Спеванкевича» — один из лучших романов известного польского писатели Анджея Струга (1871–1937), представляющий собой редкий по органичности сплав детективной и психоаналитической прозы. Отталкиваясь от традиционного, полного загадочных и неожиданных поворотов криминального сюжета, в основу которого положено ограбление банка, автор мастерски погружает читатели в атмосферу напряжоннейшой, на грани ирреального бреда, душевной борьбы решившегося на преступление человека.
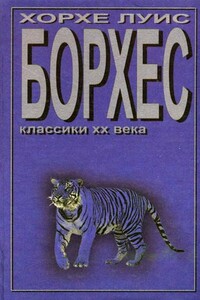
Прошла почти четверть века с тех пор, как Абенхакан Эль Бохари, царь нилотов, погиб в центральной комнате своего необъяснимого дома-лабиринта. Несмотря на то, что обстоятельства его смерти были известны, логику событий полиция в свое время постичь не смогла…
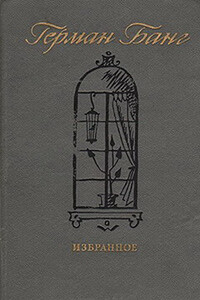
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
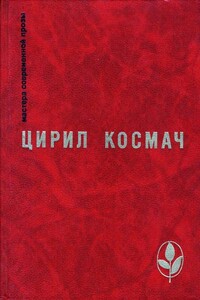
Цирил Космач (1910–1980) — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.Новеллы Ц. Космача написаны то с горечью, то с юмором, но всегда с любовью и с верой в творческое начало народа — неиссякаемый источник добра и красоты.
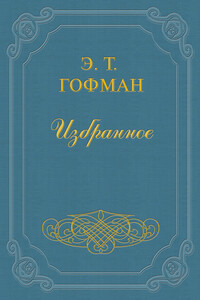
«В те времена, когда в приветливом и живописном городке Бамберге, по пословице, жилось припеваючи, то есть когда он управлялся архиепископским жезлом, стало быть, в конце XVIII столетия, проживал человек бюргерского звания, о котором можно сказать, что он был во всех отношениях редкий и превосходный человек.Его звали Иоганн Вахт, и был он плотник…».

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).
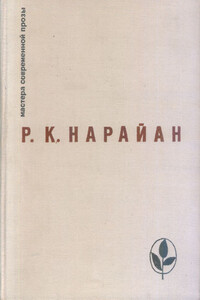
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.