Ногин - [4]
Часто рассказывал и Шуклин. Он мечтал стать народным учителем, светочем знаний в мужицкой среде.
— Стыдно им жить, Пал Василич, в такой стране, где девять мужиков из десяти не знают ни одной буквы! И живут хуже церковной крысы. Эх, аттестат бы зрелости мне, развернулся бы я во всю силенку!
Говорил телеграфист складно, и Павел Васильевич шутил, что он заменяет ему газету, еще не выписанную по соображениям бережливости. Правда, Шуклин долго не открывал душу, все приглядывался к новым знакомым и сообщал разные пустяки: светская хроника, визиты коронованных особ, некрологи по усопшим князьям, генералам, архиереям, профессорам, купцам первой гильдии, столичные сплетни. Потом стал рассказывать, чем живут калязинцы и какие телеграммы получают здешние купцы и предводитель дворянства. И о делах за пределами государства российского.
Но самые интересные разговоры начинались ближе к ночи, когда детей укладывали спать. Витя боролся со сном, хоть это не всегда удавалось, и память запечатлела лишь обрывки страшных шуклинских слов. Миротворец Александр Третий зажал Россию в кулак. Воевала против него «Народная воля», он отвечал казнями: так погиб на эшафоте студент Александр Ульянов с товарищами. В сибирской каторге потерял силы «секретный преступник № 5» Николай Чернышевский и закончил свои дни в Саратове. Замелькали в газетной хронике фамилии студентов-самоубийц, которые разуверились в жизни; помутился разумом Глеб Успенский — человек чистой совести и больших душевных страданий; бросился в пролет лестницы Всеволод Гаршин и умер на пятый день в страшных муках. «Ужасом без конца» сделалась жизнь России, но ни на один миг не угасали ее призывные маяки. Михаил Салтыков-Щедрин клеймил крепостников и их сынков в хронике «Пошехонская старина». Тяжкий духовный кризис пережил граф Лев Толстой. Илья Репин всколыхнул просвещенное русское общество новыми полотнами: «Отказ от исповеди» и «Не ждали».
Так и проходили эти вечера в доме у Ногиных. А однажды Шуклин пришел прощаться: вышло ему распоряжение отбыть в еще большую глушь, чем Калязин.
— Полагаю, хотят избавиться от меня, Пал Василич. При моей-то должности, когда все про все знаешь, на одном месте долго не усидишь. Обыватель как дикий зверь — страх как боится человека, да особливо, если тот все его грязные делишки видит. Что ж, поглядим, куда меня гонят.
Шуклин развернул полотнище карты на столе и долго искал село Грузино под Новгородом — бывшую вотчину всесильного временщика графа Аракчеева.
— Надо подумать, возможно, и не так плохо, как мне казалось. Местечко глухое, но под рукой Санкт-Петербург.
Однако на другой день стало ясно, что угоняют Шуклина не в Грузино, а в Грузины — глухоменное сельцо Тверской губернии, между Торжком и Старицей, в верховьях лесистой речки Тверицы.
— Не пойдет, Пал Василии! Уж коли в такую ссылку ехать, то не телеграфистом, а народным учителем, — это была последняя фраза, которую Витя услыхал от Шуклина.
Телеграфист подал в отставку, скинул форму почтового ведомства с блестящими пуговицами, сдал в Твери экзамен и уехал народным учителем на свою родину — в Самару.
Через семь лет мелькнуло перед глазами Виктора его имя в длинном и скорбном синодике каторжан. И — пропал человек!..
Паша пробыл в Калязине пять лет — кончил городское учьлище, приобвык писать красиво и быстро, как положено человеку за конторкой, и Варвара Ивановна отвезла его в Москву. Он теперь жил у Викула Морозова: отрабатывал за пенсион больному папеньке мальчишкой без жалованья, при хозяйских харчах. И исправно писал длинные письма: чисто, без помарок, как на службе. И старался втиснуть в них все, что представляло хоть малейший интерес для родителей и брата.
Первые робкие шаги на жизненном поприще он сделал успешно. Викул Морозов отметил его рвение и скоро положил ему денежное довольствие — харчевое и за переписку бумаг — десять рублей в месяц.
Получались письма в Калязине, и вновь там наплывала тоска по Белокаменной. Читали эти письма днем, перечитывали вечером, возвращались к ним в другие дни, хвалили Пашу, спорили и все толковали о том, как отвезут Витю в Москву, сдадут его на руки Викулу и, наконец, тронутся в путь сами.
А Паша писал, и писал, и бередил душу:
«Христос воскресе! Милые папаша, мамаша и брат Витя, поздравляю вас с праздником, целую вас крепко-крепко; желаю вам в радости и в добром здоровье провести праздник.
Мы кончили торговать в пятницу, в пять часов. Я, как приехал из конторы, сию же минуту пошел в церковь, думал, что священник будет исповедовать после вечерни, а он ушел отдыхать. Я решил встать в субботу пораньше. Так и сделал; поднялся в два часа и отправился в церковь. Заутреня началась через час. Я отстоял ее, перед обедней исповедовался и за обедней причастился. У нас вместе с двоюродной сестрой хозяйки живет ее (т. е. двоюродной сестры хозяйки) мужа брата жена. Она тоже наша, церковная. Она сделала кулич и пасху, а я освятил, и мы вместе с ней разговелись. А то бы мне, пожалуй, не пришлось и разговеться.
Потом я поздравил хозяев, и они велели мне сидеть в прихожей. Никак нельзя было уйти: все конторщики разъехались по домам, а с почты и с посыльными все время приносили визитные карточки, и нужно было сейчас же отсылать ответ. Вот я и писал ответы господам и купцам. Скучно мне не было, я запасся книгами и читал от раннего утра до поздней ночи так, что не ходил обедать (мне вынесли с кухни кусок пирога с чаем), и в один день прочел три книги по четыреста с лишним страниц в каждой.
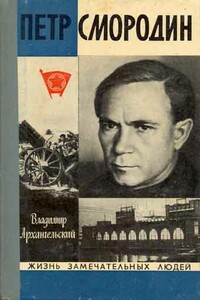
Книга рассказывает о жизни секретаря ЦК РКСМ Петра Смородина. С именем П. Смородина связана героическая деятельность РКСМ в годы гражданской войны и перехода к мирному строительству.В книге представлены иллюстрации.
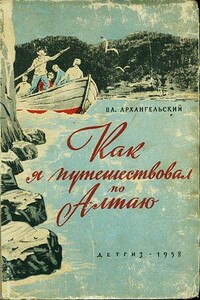
Автор провёл лето на Алтае. Он видел горы, ходил по степям, забирался в тайгу, плыл по рекам этого чудесного края. В своём путешествии он встречался с пастухами, плотогонами, садоводами, охотниками, приобрёл многих друзей, взрослых и ребят, и обо всех этих встречах, о разных приключениях, которые случались с ним и его спутниками, он и написал рассказы, собранные в книге «Как я путешествовал по Алтаю».
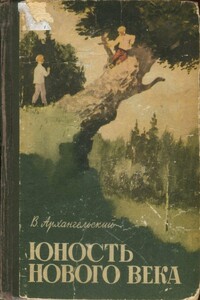
Эту книгу я задумал давно. Писалась она и легко и трудно. Легко мне было потому, что я вспоминал, как прошло мое детство. Я вырос в калужском селе, как и герои этой повести — Димка Шумилин и Колька Ладушкин. И так же, как они, создавал я с друзьями первую комсомольскую ячейку, когда белогвардейский генерал Деникин был в сорока верстах от села и по утрам нас подымала зловеще гулкая в лесах пушечная пальба. Но мне было и нелегко: я словно заново переживал все то, что в огневые годы гражданской войны легло на хрупкие плечи детей.

В книге рассказывается о жизни и деятельности Михаила Васильевича Фрунзе — революционера, советского государственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, военного теоретика.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.