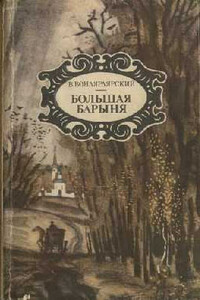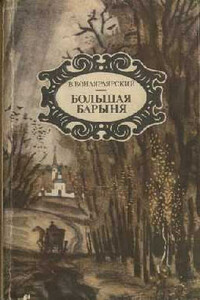Надобно быть мною, ma chиre, чтоб от самого утра до четырех часов, то есть до обеда, не отставать ни на шаг от Авдея Афанасьича, водить его по саду, смотреть каждую из собак его порознь, превозносить охотников, одетых в светло-зеленые костюмы, обшитые желтою тесьмою, лошадей страшно уродливых, и согласиться быть его дамою на первой охоте, в которой папa позволит мне участвовать. Разумеется, мы этого позволения не дождались бы никогда, но все равно. Купер, привилегированный Купер верил всему и, несмотря на высокий и выспренний ум свой, совершенно вдался в обман. За обедом я поместила Авдея Афанасьича возле себя; поэт занял место по другую сторону; Антонина, наблюдавшая за мною, несколько раз принималась хохотать очень ненатурально, но глаза ее метали пламя, и чувствительная сестра Купера шла его же стезею. Как мне было весело, тем более что в комедии, по-видимому, участвовал сам папб; вниманию его к гостю не было границы: он наливал ему вино, упрашивал повторять блюда и делал с Авдеем Афанасьичем то, чего никогда и ни с кем не делал.
По выходе из-за стола я сама предложила гостю руку, и все общество вышло на балкон. Мы сели; Купер подошел ко мне сзади.
– Вы сегодня в самом счастливом расположении духа? – сказал он вполголоса.
– Да, мне очень весело, – отвечала я громко.
– Этою веселостью обязаны мы, если не ошибаюсь, Авдею Афанасьичу?
– Может быть.
– Я не узнаю вас, кузина.
– Право?
– Прекрасный пол ваш соединяет в себе иногда так много противоречий…
– Вы думаете?
– Но укажите мне средство сомневаться, смотря на вас, кузина! Что за блеск в глазах ваших? они дышат пламенем.
– Вы находите?
– Не я один.
– Кто ж еще?
– Многие… все.
– Да?
– Но когда подумаешь о двигателе?…
– Чего?
– Веселья вашего, кузина!
– То что же?
– Невольно вспомнишь о чарах, о магических средствах, употреблявшихся в фабюлезные времена сатирами для привлечения нимф.
– А сатир этот?…
– Кто же, как не Авдей Афанасьич!
– Следовательно, нимфа – я, mon cousin. Благодарю за сравнение, но протестую: родственник наш нимало не похож на сатира, и магические способы привлечения, полагаю, ему не нужны.
– Ему, чтоб нравиться? – спросил Купер с улыбкою глубочайшего презрения.
– Конечно, ему, mon cousin.
– Нет, послушайте, кузина, или вы меня дурачите, или глаза мои созданы исключительно для духовного мира, в котором родственнику нашему, как вы называете его, назначена уже, конечно, незавидная доля.
– В мире духовном – может быть, – отвечала я с видом оскорбленного самолюбия, – но на прозаической земле…
– Что же кузина? докончите.
– Зачем? Мнения могут быть различны, и друг ваш…
– Какой друг?
– Друг ваш, Авдей Афанасьич.
– Он? мой друг?
– Так по крайней мере называли вы его вчера.
– Par dйrision![61]
– Не знаю, par derision или нет; но Авдей Афанасьич хотя и не поэт, а все-таки имеет полное право рассчитывать на частицу земного счастия.
– Быть любимым, например?
– Не страстно, но по-земному.
– И порядочною женщиною?
– Конечно, порядочною.
– Невозможно! – воскликнул Купер.
– Вы себе противоречите, mon cousin.
– Чем же, графиня?
– Не вы ли говорили мне о страсти, внушенной родственником вашим какой-то прелестной девушке?…
– Дочери мещанки, – перебил Купер.
– Все равно; если дочь мещанки в то же время внушила страсть Старославскому, то она девушка не совсем обыкновенная; а, предпочитая Авдея Афанасьича, не доказала ли она тем, что Авдей Афанасьич предпочтительнее Старославского?
– Я не говорил, что дочь мещанки внушила страсть Старославскому.
– Но не он ли увез ее?
– Он мог увезти без всякой страсти, по капризу.
– Не верю.
– Даже не по капризу, а по другим причинам.
– Я этих причин не допускаю, – отвечала я с настойчивостью, которая начинала выводить из терпения поэта, – поступок Старославского может быть извинен только любовью к этой девушке.
– Как, графиня, вы сравниваете Старославского с этим полипом?
– Нет, потому что тот, кого вы называете полипом, предпочтен Старославскому.
– Вами предпочтен?
– Я не сказала этого, но…
– Вы говорите, но… достаточно, очень достаточно!
И покрасневший до ушей Купер снова бросился к Антонине, и новое совещание совершилось в темных аллеях сада.
Надобно заметить, что об успехах своих не имел Авдей Афанасьич ни малейшего понятия. Не обращая внимания на гнев Купера, на иронию Антонины, гость закурил, с моего позволения, огромную белую с цветочками трубку и принялся препрозаически дремать, прислонясь к колонне на одной из нижних ступеней крыльца. «И этот человек прибыл издалека в Скорлупское с местью в сердце!» – подумала я. Или я очень неопытна в системе Лафатера, или Купер поэт в полном смысле этого слова. Чувствуя еще некоторую слабость, я оставила задремавшего Авдея Афанасьича и родствеников своих и отправилась в свою комнату. Был час восьмой вечера, когда, лежа на диване, я заметила, что гардины окон моих приходят в движение; на дворе было тихо, и движение это не испугало, но удивило меня до крайности. «Неужели Купер?» – подумала я. Правда, поэт способен на все, выходящее из общего порядка; но предо мною между гардинами явился не поэт, а Жозеф.
– Que me voulez-vous?[62] – спросила я с удивлением.