— Усекла, родненький. Усекла. Ты так хорошо объяснил мне. От мировой революции. А как же. Мы все от нее помираем.
— Гляди ж, старая.
И на минуту, пока выбирались из хаты, пока их не пропустили двери, установилась тишина. Только шаги, шаги, топот и шарканье ног. Шестеро несли свою ношу. Детство, молодость, зрелость — жизнь, Груз был нелегок. Грузен был сам Данилюк. Громоздок и неуклюж сработанный под него гроб. Но никто из несущих не подавал и вида, что ему тяжело. Они шли, не сгибаясь, не вихляя ногами, прямые, как гвозди или, скорее, как шпальные костыли. Прогибались, стонали и гудели только половицы под их ногами в избе, сенях на крыльце. Заплакала медь, заголосили трубы оркестра. И в этом медном металлическом голошении никто не услышал, как все они в один голос проскандировали:
— Но пасаран!
Нависшие над забором ветви яблонь коснулись гроба. Одна из яблонь не выдержала и одарила покойника яблоком. Наливная антоновка сорвалась с ветки и легла на подушку возле самого лица. Если бы Но Пасаран способен был открыть глаза, он бы увидел его и мог откусить.
Плакал оркестр, пускали слезу и люди, роняла листья яблоня.
Они шли.
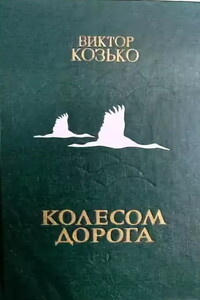

![На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/storage/book-covers/45/457edb58204126e8d78cd028bd3885ebf7c25ec9.jpg)







