…Но еще ночь - [81]
7.
Всё, что случилось после, можно было бы назвать выпадением из жанра, как из окна. Еще перестройка вполне вписывалась в топику типично русских смут сверху, но жанр вдруг пошел по швам, когда за сплошными джиннами свобод и головокружений перестали замечать бутылку, из которой они были выпущены. С марксизмом всё было куда проще. То, что Маркса просто лишили его лондонской прописки и переселили в Скотопригоньевск, было хоть и неожиданной по видимости, зато вполне последовательной на деле реализацией его наиболее заветных и сокровенных потенций. Буржуазные марксисты могли кипеть от негодования при виде этого вопиющего произвола, как закипел бы, по всей вероятности, и сам Маркс, доживи он до происшедшего, но что значили бы все эти выхлопы субъективности по сравнению с объективным фактом становления Маркса более последовательным, а главное, более законченным самим собой: Шигалевым . Переход к гражданскому обществу и рыночной экономике модулировал, как ни странно, в петровскую тональность. России — во второй раз после Петра — не терпелось стать целиком и полностью Европой; после наспех проведенной перестройки, которая, по сути, была не чем иным, как сменой лозунгов и плакатов (читай: болтовней), началась пересадка : диковинный эксперимент социал-мичуринцев, вознамерившихся скрестить хоругвь с либертарианством и выращивать протестантские культуры на православном камне веры. Эти начитавшиеся в свое время Макса Вебера шестидесятники ухитрились упустить из виду очевидное: чтобы капитализм возникал из духа аскетической этики, а не из разбоя вчерашних комсомольских выскочек, выскочивших вдруг из своих закрытых партийных кормушек в «закрома родины» , потребовалась бы, как минимум, религиозная реформация с заменой православия трансплантатом кальвинизма. Сказанное проясняется на следующем бесхитростном сравнении. Когда американский президент в кампании своих советников и министров молится у себя в кабинете, это понятно и даже естественно. Молитва здесь просто некий условный поведенческий рефлекс, приобретенный в повторяемости пресвитерианских практик. Пуритатин-баптист молится по бихевиористской схеме «стимул-реакция», то есть по привычке, на которой он сидит как на игле. В равной степени понятно и даже естественно, когда он делает это перед камерами. Под countdown оператора, так сказать: три, два, один, поехали! В Америке даже история делается лишь постольку, поскольку её снимают на камеру. Но когда в России православные службы отстаивают у алтаря первые лица, это уже никакая не молитва, а просто биеннале и постмодерн. Жорж Клемансо сказал однажды об Америке, что эта страна перешла от варварства к декадентству, минуя культуру. Похоже, Россия намерена и здесь обогнать Америку. Коан по-русски: как можно сойти с ума, не войдя в него. Европа в 18 веке — время скепсиса, пресыщенности и просвещения. Она же за пять, шесть веков до этого — время соборов, рыцарства и крестовых походов. В безумной затее Петра России выпала участь впрыгнуть в европейское просвещение, перепрыгнув через европейское средневековье. Как если бы у послушника отобрали Четьи-Минеи и заставили его читать «Порнограф» Ретифа де ла Бретонна. Но Петр — победитель, и в политической теологии двойного тела короля деяния его «политического тела» затмевают провалы его «естественного тела» , вроде тех, к примеру, о которых с такой мстительной иронией повествует граф фон Мантейффель[203]: «Он превзошел себя. За столом он не отрыгивал, не пускал громко ветры, не ковырял в зубах, по крайней мере, я ничего не видел и не слышал», а для того чтобы подать руку царице, «он надел перчатки, впрочем достаточно грязные». Можно, конечно, гадать, как обстоят дела по этой части у нынешних реформаторов. Но только слепой стал бы оспаривать, что «политическое тело» (каким его придумали юристы елизаветинской эпохи, а в наше время столь блистательно описал Эрнст Канторович[204]) сегодня легче можно найти у футболистов, боксеров, портных, эстрадных поп-, или топзвезд, чем у собственно политиков.
8.
Не то, чтобы гражданское общество и демократические свободы были невозможны в России. В России — кто бы стал спорить — возможно и не такое. Если, конечно, браться за дело с учетом национальных особенностей. Вот Петр и взялся: он насаждал в России Голландию à la russe, на русский лад. Вздернул её на дыбы, умыл кровью и велел учиться грамоте и хорошим манерам. По щучьему веленью, по моему хотенью. А не по немецким учебникам и французским энциклопедиям. Можно сколько угодно рационально планировать и обосновывать реформы в России, опираясь на занудные и заумные социологии; всё равно, проводить их приходится с оглядкой не на логику, а на магию. Реформы в России не осуществляют, их ждут . Потому что реформатор — это ревизор-тавматург, а социальная справедливость — чудо, которое вымаливают, впадая время от времени в бешенство. Таков канон русской истории, и ему впору либо следовать, либо нарушать его, но если уж нарушать, то по-петровски, а не, с позволения сказать, горбачево-ельцински. Демократия в России оттого и столь хлопотна, что она абсолютно не вживляемый трансплантат, если, конечно, его пересаживают, а не впаивают в организм. Когда диадох Горбачев, а вслед за ним и взбирающийся на танк, как на броневик, Ельцин выходили в толпу и увещевали её взять себе столько свобод и суверенитета, сколько проглотится, им казалось, что это и есть демократия и что толпа сейчас вот-вот заговорит по-английски. Толпа по-английски не заговорила, зато заговорила по-блатному, и если к коммунизму шли через плюсы электрификации и индустриализации всей страны, то бонусом демократии оказалась криминализация под завывающий рефрен эстрадных клонов:

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
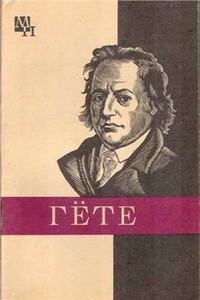
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».