…Но еще ночь - [3]
4.
Увиденный так, переход из мира физики в мир социального оказывается лишь транскрипцией старой мифологемы «потерянного рая» . Можно говорить о «жизненном порыве» , или «энтелехии» , или о чем-то еще в этом роде, зная при этом, что человеческое в нас начинается как раз там, где все эти порывы отходят на задний план, и где мы из животной физики всеслиянности попадаем в новую физику раздельной совместности, живя уже не в себя, а с другими и в сознании собственной востребованности, мобилизованности, ответственности . Первофеномен социальной жизни открывает нам её как организм, который, в отличие от биологического, лежит уже не в бессознательной данности природы, а в её сознательном продолжении. По аналогии (которая больше, чем аналогия): подобно трехчленности человеческого организма, состоящего из нервной системы, дыхательной системы и системы обмена веществ, социальный организм обнаруживает свою трехчленность в виде хозяйственных процессов, правовых регуляций и духовной жизни. Разница в том, что устройство и организация последних полностью зависит от нас самих, что значит: мы сами искусственно создаем аналог того, что биологически возникло без нашего участия: некоего «внешнего человека» (в точном парацельсовском смысле, но с модуляцией в социум), и тогда социальный организм являет собой вывернутую вовне нервную систему (сеть хозяйственных ассоциаций), экстраполированные на сферу публичности дыхательные и ритмические процессы (правовые отношения) и трансформировавшийся в культуру обмен веществ (духовную жизнь). Понятое так, общество оказывается — по-гётевски зрелой, сознательно продолженной природой , если угодно, новым витком эволюции, местом свершения которой предстает уже не ламарковская лестница, а мысли и чувства людей, и в которой конституционные права и свободы декларируются не в оглядке на капризных недорослей и недоумков («хочу залезть в шкаф и хрюкать, и чтобы считали это искусством»), а сообразно самим вещам. Но тем самым прояснился бы и вопрос о будущем. Мы перестали бы искать будущее в потребительском шаблоне объективности и находили бы его в перманентном риске точек скрещения человеческой свободы и человеческой ответственности. Мир людей — мир их решений. И значит, будущее этого мира может существовать только как решение. Если учесть темпы, с которыми прежняя, классическая, природа , противопоставляемая истории , поглощается миром социального и становится реликтом самой себя, то представление о будущем, как решении , охватывает уже не только сферу человеческого, но и природного, как такового. Старый зачитанный до дыр топос Римл. 8, 19–23 неожиданно обернулся злобой дня в программах и красных книгах ничего не подозревающих об этом экологов. Решение — ответственность. Когда-то ответственность возлагалась на внемирное существо, называемое Богом. Теперь об этом вспоминают чаще всего в воскресных проповедях, до которых и сужают, очевидно, компетенцию названного существа. Но если будущее — это решение, а решение — ответственность, то, наверное, сама ответственность есть не что иное, как способность к ответу , способность держать ответ . Причем такой ответ, который не умножал бы уже ярмарку наших интеллектуальных тщеславий, а отвечал бы необходимости самих вещей .
5.
Есть основания допускать, что Творец и Автор описываемого эксперимента позаботился о том, чтобы с повышением наших свобод до опаснейшей грани, после которой нам ничего не сто́ит захотеть послать мир Божий ко всем чертям, повышались и наши ответственности, что значит: возможность знать ответы, из которых единственно и могут быть приняты решения. Правильные решения или неправильные: как раз по типу и качеству ответов. Возникший узел впечатляет степенью риска. Риск — с непредвиденным исходом — коренится в безудержной эскалации свободы, которая всё меньше и меньше воспринимает себя как долг и ответственность, и всё больше — как свободу хотений . Но хотеть, значит хотеть что-то , и в конце концов всё сводится к тому, чего же мы именно хотим. Пестрота возможного (и невозможного) не должна сбивать с толку; на деле, весь инвентарь хотений умещается в простой альтернативе: либо дать самим вещам выговариваться через нас, либо заглушать их своим говорением. Мировая история балансирует между бесконечно более редкими примерами первой возможности и бесконечно более частыми второй. Но подвох заключается в том, что сама свобода наших хотений не свободна, а детерминирована лабиринтом предпосылок и предысторий, так что там, где мы решаем о будущем, решения наши в подавляющем большинстве предопределены прошлым. И значит, то, что мы называем будущим, суть лишь идущие нам навстречу, или настигающие нас, из будущего,

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
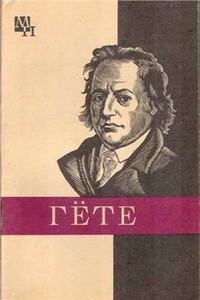
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».