Николай Суетной - [11]
— Спасибо, сватушка, спасибо! — тростил между тем Суетной. — Такое спасибо, что по гроб жизни не забуду. Только вот горе-то, — обратился он ко мне, — деньги-то дал, а расписки не берет… уговори хоть ты его…
— Как не берет? — спросил я.
— Так и не берет… Сват, успокойте вы меня, возьмите расписочку…
— Будет тебе городить-то…
— Сватушка! в смерти, в животе бог волен, — говорил Суетной, стоя перед Абрамом Петровичем без шапки и отвешивая ему низкие поклоны. — Яви божескую милость, возьми расписку. Бог знает, что будет впереди-то… Может, зазнаюсь я, совесть потеряю в больших-то хоромах.
— Будет, будет тебе… нечего и барину надоедать пустыми этими разговорами. Я сказал тебе: отдашь — хорошо, а не отдашь — еще лучше, потому что тогда душе моей еще больше спасения будет… Вот тебе и все.
Николай Суетной только руками развел.
— Знакомая комнатка-с, — проговорил Абрам Петрович, вздохнув, когда мы вошли в залу. — Вот на этом самом кресле генерал покойник сидеть любил. Сидит, бывало, да так-то в окошечко посматривает.
Мы уселись за чайный стол.
— Вы как, внакладку или вприкуску пьете? — спросил я.
— Признаться, я пью с медком-с…
— Ну, меду у меня нет…
— Так позвольте вприкусочку-с.
Как ни был счастлив Суетной, как ни сияло радостью лицо его, как ни был он разговорчив и весел, а все-таки войти в залу и сесть с нами за чайный стол он отказался наотрез и остался в передней. Как-то боком уселся он на конник[9], положил одну ногу на другую, поставил на тот же конник чашку с чаем и суетливо, словно белка, откусывая сахар, еще суетливее подносил к губам обеими руками чайное блюдечко. Абрам Петрович, наоборот, держал себя с достоинством, солидно. Он сидел на кресле и, уставив блюдечко на все пять пальцев левой руки, втягивал в себя чай, закрыв глаза. Отказываться он начал от чая после первой же чашки, что не мешало ему, однако, выпить их штук до десяти.
— Я все про вашего покойного дядюшку, про генерала вспоминаю, — проговорил он, откусывая сахар. — Суровый был, но зато и разум большой имел… Как он этих самых разделов крестьянских не любил! Бывало, вспыхнет весь, затрясется, задрожит, когда к нему придут позволения на раздел просить. Затопает ногами, за волосы себя схватит и давай костерить на чем свет стоит… «Подлецы вы, кричит, олухи, дурачье!» И сейчас, бывало, за веником побежит. Принесет веник, принесет прутик какой-нибудь и опять к мужикам: «Смотрите, говорит, дурачье! Вот вам прутик, а вот вам веник, то есть несколько прутьев, связанных в пучок… Ну, говорите теперь, что сломить легче: прутик али веник. Так-то и семья. Одиночка — это прутик, а веник семья!» Обругает, бывало, да со двора долой… — И, переменив тон на презрительный, он добавил: — А теперь-то мудрое наше начальство готово и одиночек-то надвое перерезать… Что это такое, ваше высокоблагородие, порядка у нас нет никакого, ни в ком-то разума нет. Кого хотите возьмите, и сейчас вы увидите, что в человеке нет разума. Посмотрите хошь на мужика. Ничего себе, мужик как мужик: и грязный, и неумытый, и сквернослов, и кабак помнит, и зубоскал, а вывернешь его наизнанку, так индо руками разведешь… Вот как-то недавно я в немецкой колоние был… Меня даже досада взяла, как эти немцы аккуратно дело ведут. И нельзя ведь сказать, чтобы народ уж очень умный был, пожалуй, глупее много мужика нашего, а насчет аккуратности говорить нечего, молодцы. Живут — посмотреть любо. Домики чистенькие, перед каждым домиком садик, улицы выметены, вокруг кирки чистота, колодцы, мостики, больничка есть, аптечка, школка небольшая, труба пожарная… едят сладко, спят мягко! А рядом русское село… Смотреть тошно! И земли столько же, сколько у немцев, село казенное, и земля одинаковая, и река тоже протекает, а смотреть тошно. Избы грязные, крыши соломенные, в ограде церковной телята поповские, навозищу полны дворы, едят скверно, спят во вшах… да чего! Больше половины села у немцев в работниках живет… Я даже заплакал… скорее на лошадь, и дай бог ноги. Заходил я и в правление ихнее, порассмотрел все, порасспросил… У них и общественный капитал есть… А у нас? Вот у нас в волости три кабака, дают они дохода тысячу восемьсот рублей в год… Вот уже шесть лет кабаки платят нам деньги эти… ведь это десять тысяч восемьсот рублей, говорят! Ведь какой капитал-то… На случай беды какая бы подмога-то была! А у нас все-то эти денежки тем же путем да опять туда же, в кабак. Дураки мы, как есть дураки… Дали нам волю, а мы взяли да на малый надел пошли, земли испугались… А вы, поди, и сами знаете, каково жить-то на малом-то наделе. Да вот, возьмем хошь свата в пример. Вы, кажись, изволили быть у него?
— Был.
— Изволили видеть избенку-то?
— Видел, избенка незавидная.
— А ведь вот человек и не пьяница и не мот. Двадцать лет он в этой избенке-то прожил, двадцать лет трудился, покоя себе не знал, а накопил, вишь, всего триста рублей… ведь это по пятнадцати рублей в год выходит только. Каково же жить тому, кто, окромя хлебопашества, никакого себе занятия не имеет? А кто виноват, как не общество, как не наши глоты да мироеды. Повесить их за такое дело и то мало. Дали нам и самоуправление. «Нате, говорят, управляйтесь сами! Выбирайте себе старшин, старост, судей, сборщиков… собирайте сходы, думайте, как бы лучше свои мирские нужды приладить!» А мы набрали такого народу, что всех-то их в омут затолкать и то не жалко. Общество — великое дело, оно и думать должно по-общественному. Тут должно быть все сообща, не об одном себе думать, а обо всех: помогать друг другу, исправлять друг друга, уму-разуму учить… А мы-то из-за какого-нибудь клочка сена, из-за какой-нибудь борозды лишней готовы друг на друга войной идти. Придешь на этот сход-то: послушаешь, посмотришь да плюнешь… Какие это рассуждения, когда только и норовят как бы с кого побольше водки выпить! Нет-с, при таких порядках с обществом и связываться нечего, а лучше всего от него, как от греха, подальше-с…
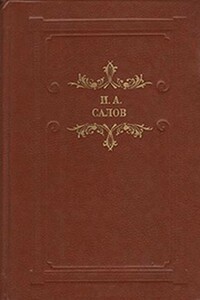
САЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1834–1903) — прозаик, драматург. Детство Салова прошло неподалеку от Пензы в родовом имении отца Никольском, расположенном в живописном уголке Поволжья. Картины природы, написанные точно и поэтично, станут неотъемлемой частью его произведений. В 1850 г. переехал в Москву, служил в канцелярии Московского губернатора. Занимался переводами модных французских пьес. Написал и издал за свой счет две собственные пьесы. В 1858–1859 гг. одно за другим печатаются произведения Салова, написанные под ощутимым влиянием «Записок охотника» Тургенева: «Пушиловский регент» и «Забытая усадьба» («Русский вестник»), «Лесник» («Современник»), «Мертвое тело» («Отечественные записки»), В 1864 г.

САЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1834–1903) — прозаик, драматург. Детство Салова прошло неподалеку от Пензы в родовом имении отца Никольском, расположенном в живописном уголке Поволжья. Картины природы, написанные точно и поэтично, станут неотъемлемой частью его произведений. В 1850 г. переехал в Москву, служил в канцелярии Московского губернатора. Занимался переводами модных французских пьес. Написал и издал за свой счет две собственные пьесы. В 1858–1859 гг. одно за другим печатаются произведения Салова, написанные под ощутимым влиянием «Записок охотника» Тургенева: «Пушиловский регент» и «Забытая усадьба» («Русский вестник»), «Лесник» («Современник»), «Мертвое тело» («Отечественные записки»), В 1864 г.

«Андриан завыл… вой его раскатился по лесу, пробежав по холмам и долам, и словно отозвался эхом. Но то было не эхо, а отклик старого волка. Отклик этот раздался из глубины оврага. Андриан замолк, и мертвая тишина снова водворилась… но тишина эта продолжалась недолго. Вой из оврага послышался снова, Андриан подхватил его, и два эти голоса словно вступили в беседу, словно принялись обмениваться вопросами и ответами. Я притаился, перестал дышать, а вой волков словно приближался. К старому хриплому голосу присоединились более свежие – и потрясающий Концерт начался…».

САЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1834–1903) — прозаик, драматург. Детство Салова прошло неподалеку от Пензы в родовом имении отца Никольском, расположенном в живописном уголке Поволжья. Картины природы, написанные точно и поэтично, станут неотъемлемой частью его произведений. В 1850 г. переехал в Москву, служил в канцелярии Московского губернатора. Занимался переводами модных французских пьес. Написал и издал за свой счет две собственные пьесы. В 1858–1859 гг. одно за другим печатаются произведения Салова, написанные под ощутимым влиянием «Записок охотника» Тургенева: «Пушиловский регент» и «Забытая усадьба» («Русский вестник»), «Лесник» («Современник»), «Мертвое тело» («Отечественные записки»), В 1864 г.

САЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1834–1903) — прозаик, драматург. Детство Салова прошло неподалеку от Пензы в родовом имении отца Никольском, расположенном в живописном уголке Поволжья. Картины природы, написанные точно и поэтично, станут неотъемлемой частью его произведений.Первая редакцияОдна из лучших вещей Салова — повесть «Грачевский крокодил» имела две редакции. В первой редакции повесть напоминала написанные по шаблону антинигилистические произведения и получила суровую оценку Щедрина. Во второй книжной редакции текст «Грачевского крокодила» пополнился десятью новыми главами; радикальной переделке подверглись также некоторые сцены и эпизоды.

САЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1834–1903) — прозаик, драматург. Детство Салова прошло неподалеку от Пензы в родовом имении отца Никольском, расположенном в живописном уголке Поволжья. Картины природы, написанные точно и поэтично, станут неотъемлемой частью его произведений. В 1850 г. переехал в Москву, служил в канцелярии Московского губернатора. Занимался переводами модных французских пьес. Написал и издал за свой счет две собственные пьесы. В 1858–1859 гг. одно за другим печатаются произведения Салова, написанные под ощутимым влиянием «Записок охотника» Тургенева: «Пушиловский регент» и «Забытая усадьба» («Русский вестник»), «Лесник» («Современник»), «Мертвое тело» («Отечественные записки»), В 1864 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».