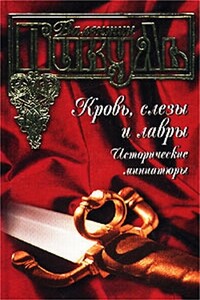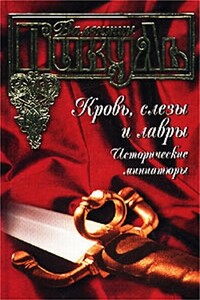Никола Шугай - [5]
По лесу снова прокатился выстрел. Шугай спокойно стоял у могучего пня и смотрел куда-то мимо товарища, точно все это его не касалось, и мысли были заняты совсем другим.
— Да что же это? — побледнев, пробормотал оторопелый немец. Он вертел в руках ружье, осматривая мушку.
— Пошли, — сказал Шугай.
И они зашагали дубравой мимо редких старых пней, между которыми были большие просветы, зеленые сверху и синие снизу. Все было какое-то странное, лес казался иным, чем минуту назад. Солнце уже клонилось к западу, но лес сиял. Явственно виднелась каждая морщинка коры, зелень листвы точно стала свежее, ноги вязли в невиданном раньше мху. Треск ломавшейся под ногой ветки, прежде заставлявший вздрогнуть, теперь звучал ясно и весело. Противник казался далеко-далеко. Да был ли он вообще? Была ли война?
Друзья молча шагали рядом. Только к вечеру, уже в поле, близ окопов, немец сказал:
— Значит, ты веришь в эту чепуху? — Он пытался придать своему голосу дерзкий тон, но слова его звучали неуверенно.
Шугай и бровью не повел.
Еще много недель тянулась мерзкая жизнь в лагерях и окопах. И пока другие солдаты, глядя на летящий снаряд, гадали: «Если упадет вон там в поле, за дикой грушей, — вернусь с войны живой», — наши приятели глубоко в сердцах таили свою судьбу, никогда не обмолвившись о ней друг другу. Шугай — потому, что об этом говорить не полагалось. А немец не хотел лицемерить перед собой и товарищем.
Потом они расстались и больше не встретились никогда. Немца откомандировали на службу связи, роту сменили, и она отошла в тыл, а потом на другой участок фронта, и, как часто бывает на войне, люди потеряли друг друга из виду.
Но жена Шугая Эржика, старый отец его Петро и свекор Иван Драч, перенесшие немало гонений, и все друзья Шугая, которые теперь, через одиннадцать лет, уже не боятся признаться в дружбе с ним, охотно подтвердят вам, что Никола частенько вспоминал о немце и не раз говорил, что хотел бы еще встретиться с ним.
Так рассказывал пастух в шалаше над Голатынем.
ГЛАВА II
Колочава
С одной стороны узкой долины — вечно покрытый облаками пик Стримба и вершины Стременош. Дальше — Тисова, Дервайка и Горб. С другой — Бояринский верх, Пир-гора, Красивая и Роза. Кругом одни горы. Сланцевые и песчаниковые породы смяты, изломаны, прогнуты и вознесены к облакам. Горы, холмы, снова горы, перерезанные пропастями, пещерами, ущельями, в которых едва пройдет шеренга из четырех человек, тысячи родников и горных ключей, чьи воды стремительно бегут по валунам, а в тихих заводях стоят зеленые, как изумруд. Здесь с ревом прокладывает себе путь река Колочавка. И там, где течет она среди расщепленных скал, сливая свои воды с Тереблой, — уже течет, а не мчится, прыгая по камням, гордая своей победой над горами, что отдали ей в долине русло шагов в сто шириной, — там лежит деревня Колочава.
Под осыпающимися скалами бежит река. На другой стороне — дорога. А между ними — деревня, такая длинная, что, когда путник, не знающий этих мест, идет по дороге мимо изб и еврейских лавчонок, потом вдоль лугов и садов и опять мимо домиков и изб, у него, смотря по характеру, нарастает раздражение или тупая покорность, ибо после часа, после двух и трех часов ходьбы ему все еще отвечают, что он в Колочаве, в, Колочаве у Негровиц, в Колочаве на Горбе, в Колочаве-Лазе.
Впрочем, имя Николы Шугая связано только с Колочавой-Лазой. О ней и будет речь.
Колочава-Лаза обстроена лучше всех, есть в ней даже католический костел. Шоссе здесь переходит в улицу, огороженную с обеих сторон забором и посыпанную речными ракушками и галькой, которая приятно хрустит под ногой. Вдоль улицы тянутся изгороди — тын, местами плетень, местами даже настоящий дощатый забор. В нем сделаны калитки и перелазы, то есть места пониже, где с помощью двух лавочек или просто больших камней человек или собака — но не скот! — легко перелезают через забор.
За заборами — дворики, избы, а между ними и рекой Колочавкой — сады. Летом Колочава вся в цвету, смесь зеленого, красного и желтого. Зеленый — это конопля и грядки картофеля, вьющиеся бобы расцветают кровавыми каплями, а сотни подсолнечников, зреющих по краям грядок, отливают золотом. Желтизной же поздним летом светят цветы рудбекии, бог весть из каких панских садов занесенные сюда. Высокие стебли рудбекии вьются по заборам и обнимают кресты на распутьях, массивные кресты из двух бревен с грубо намалеванным Иисусом.
Живут здесь русины[2] — пастухи и лесорубы — и евреи — ремесленники и торговцы. Бедные евреи и состоятельные евреи. Бедные русины и совсем нищие русины.
Правда, католик ни за какие блага на свете не отведает в пост скоромного, а еврей лучше умрет, чем выпьет вина, к которому прикоснулся гой, однакоже за столетия обе стороны уже привыкли к этим взаимным странностям, и религиозная ненависть чужда им. И если русин подсмеивается над евреем за то, что тот не ест свинины, обедает в шапке и по пятницам зря жжет дорогие свечи, то это самая добродушная насмешка. И если еврей презирает христианина за культ казненного человека, презрение это носит весьма отвлеченный характер. Заглядывают один к другому и в религиозные дела и в кухню с одинаковой легкостью. Часто заказчик-русин, приехав с утра пораньше, к ремесленнику-еврею, застает его еще за молитвой. Хозяин спокойно выходит к гостю в своем молитвенном облачении, желает ему доброго утра и начинает обстоятельно торговаться о цене за оковку телеги, починку сапог или вставку стекол. Всевышнему не к спеху, и он подождет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.