Ницше или Как становятся Богом (Две вариации на одну судьбу) - [8]
” и “вечное возвращение” — да, раскрыть все карты и содеять (разумеется, в рамках европейской режиссуры) некое подобие окаянного жеста Раскольникова, ставшего на колени среди площади и целующего землю “с наслаждением и счастием”… Нелепейшее “либо”; что, впрочем, оно так или иначе предносилось сознанию Ницше, об этом свидетельствует множество прямых и косвенных намёков: “К морали Я. — Трудность добиться понимания… Каждый поступок толкуется превратно. Чтобы не быть постоянно распинаемым, следует запастись масками” (KSA 10,13). — “Это было весной, и все деревья налились уже соком.
Идя лесом и полный самых ребяческих мыслей, я машинально вырезывал себе из дерева свистульку. Но стоило мне поднести её к губам и засвистеть, как мне предстал бог, давно уже знакомый мне, и сказал: “Ну, крысолов, чем это ты тут занят? Ты, недоделанный иезуит и музыкант, — почти немец!” (Я подивился тому, что богу вздумалось польстить мне таким образом, и решил про себя быть с ним начеку.) “Я сделал всё, чтобы оглупить их, позволил им потеть в постели, дал им жрать клёцки, велел им пить до упаду, сделал их домоседами и учёными, внушил им жалкие чувства лакейской души…” — “По-моему, ты замыслил нечто более скверное! — вмешался я, — Уж не хочешь ли ты угробить человека!” — “Может быть! — ответил бог. — Но так, чтобы при этом он выгадал для себя нечто!” — “Что же?” — спросил я с любопытством. — “Кого же, следовало бы тебя спросить!” — так сказал Дионис и погрузился в молчание с присущей ему манерой искусителя. Видели бы вы его при этом! — Это было весной, и все деревья налились уже соком”(KSA 11, 482f).
Оставалось второе “либо”, притом что ничего более противоречивого, даже нелепого, и нельзя было придумать: разыгрывать максимум жизненности при висящем на волоске минимуме личной жизни; этот полуживой и одинокий страдалец, воспринимающий неизбывную физическую боль почти как привычную норму самочувствия, простёрся-таки громадным вопросительным знаком над всей трубящей восклицательностью своего учения, полагая, очевидно, что ему удастся скрыть за “семью шкурами одиночества” компрометирующий его лик мученика. Ближайшая маска — “позитивист” — оказалась недолговечной; надо было, грубо говоря, наработать мозоли для предстоящей большой работы — пройти некий спецкурс по самоочерствлению или отбыть воинскую повинность по части всего романтически надрывного и ранимого. Уже “Эккерман” (кстати, любимейшая книга) должен был дать автору “Рождения трагедии” недвусмысленные рекомендации на этот счёт. “То необычное, что создают выдающиеся таланты, — сказал Гёте, — предполагает весьма хрупкую организацию, позволяющую им испытывать редкие чувства и слышать небесные голоса.
Такая организация, вступая в конфликт с миром и стихиями, оказывается легко ранимой, и тот, кто, подобно Вольтеру, не сочетает в себе большой чувствительности с незаурядной выносливостью, подвержен продолжительной болезненности” (20 декабря 1829 г.)[16]. Рекомендация, попавшая в точку: книга “Человеческое, слишком человеческое” вышла с вызывающим посвящением — “Памяти Вольтера”. “Книга для свободных умов” — в сущности обзаведение новой и вполне транзитной компанией: вместо Шопенгауэра и Вагнера — Ларошфуко, Лабрюйер, Фонтенель, Вольтер, Шамфор, испытанные пятновыводители по части всяческой романтики, героики, морального прекраснодушия. Когда урок будет усвоен и окажется, что афористическая техника ученика не то что не уступает, но и явно превосходит образцы, этот сорт ментальности будет отброшен, как выжатый лимон; уже с четвёртой книги “Весёлой науки” — Sanctus Januarius — всё отчетливее станет вызвучиваться новая модуляция в некую неслыханную тональность (“о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он ещё не видел на нотной бумаге, что это как бы насилие над Евтерпой”. KSA 286f); во всяком случае, эффект выведения пятен и самоочищения, стало быть саморасширения и самоуглубления, позволит совсем ещё недавнему вагнерианцу и пылкому почитателю Адальберта Штифтера сказать о себе: “Теперь я, с большой долей вероятности , самый независимый человек в Европе” (Письмо к Ф. Овербеку от 30 апреля 1884 г.). Или ещё: “Во мне теперь остриё всего морального размышления и работы в Европе”. И уже в тональности будущего “стиля Прадо”: “Из всех европейцев, живущих и живших, — Платон, Вольтер, Гёте — я обладаю душой самого широкого диапазона. Это зависит от обстоятельств, связанных не столько со мной, сколько с “сущностью вещей”, — я мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского”.
Читателя, воспитанного на усреднённых представлениях о масштабе индивидуального и чересчур переоценивающего косметическую семантику скромности, эти заявления, пожалуй, смутят; но когда дело идёт об объявлении войны тысячелетним ценностям и о переоценке всех ценностей, было бы более чем странным, если бы subjectum agens этой переоценки представился скромным “филологом” или “философом”, неким “ufficiale tedesco”, согласно одной из последних туринских масок Ницше. Заметим: все кривотолки и недоразумения, связанные с именем Ницше, коренятся именно здесь; в сознании среднего (да и не только среднего) европейца он и по сей день пребудет этаким моральным пугалом, от которого впору уберечь юные души; ещё бы, когда едва ли не на каждой странице его последних (начиная с “Заратустры”) сочинений можно обнаружить такое, отчего волосы встанут дыбом. Скажем прямо: не только злые перипетии судеб его наследия — о них ниже — содействовали этому, но и сам он, несравненный артист языка, находивший слова, “

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
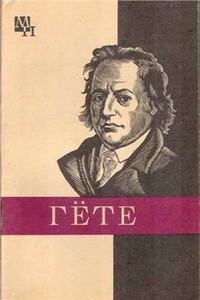
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.