Ницше - [4]
Часто ли можно услышать от трезвомыслящих — демократов, либералов, социалистов и т. п. — признание типа: мое мировоззрение происходит из ненависти? А вот Ницше говорил о себе: «Мой антилиберализм доходит до злости». Это не провокация — это действительно сверхтрезвая и проницательная реакция на еще неродившиеся бесчисленные жертвы «тарантулов», этих подвижников «свободы, равенства, братства», способных — после всего ими содеянного — вызвать уже не злость, а злобу, ненависть, самые страшные проклятья.
Благодаря склонности к самоанализу (возможно, даже психоанализу), Ницше оставил «инструкции» будущим герменевтам. Так, в одном из писем, давая совет относительно того, как лучше всего писать о нем — психологе, писателе, имморалисте, — он предостерегал от однозначности, от решительных «да» или «нет».
Совершенно не нужно и даже нежелательно, — пишет он, — чтобы вы принимали сторону моих защитников или моих противников; напротив, смесь некоторой доли любопытства, какое проявляют при виде незнакомого растения, с иронически-недоверчивой сдержанностью — вот, как мне кажется, та позиция, которая была бы наиболее разумной в отношении меня. — Прошу прощения! Это, конечно, очень наивно — давать благие советы, как следует выпутываться из того, из чего выпутаться невозможно…
Это не предостережение интерпретаторам против самого себя — это трезвая характеристика «невозможного», собственного творчества со всеми его полетами над бездной.
Вызов, брошенный Ницше философии изнутри самой философии, оказался необыкновенно производительным: Ницше принадлежит самый плодотворный принцип любого вида знания — переоценка всех ценностей, то есть критическое переосмысление, развитие, преодоление достигнутого уровня, конкуренция идей, все более углубленный подход, позволяющий выявить новые аспекты, уровни, подходы, трактовки. Парадоксы, курьезы, сбивающий с толку эпатаж, дерзкий нонконформизм — все это оказалось необходимыми формами того философского содержания, которое в полную меру раскрылось в наше время в работах Куна, Полани, Лакатоса, Фейерабенда.
Понять мыслителя — не просто дать интерпретацию его мыслей, но войти в поток его мышления, понять, как он мыслил, «мыслить все то существенное, что мыслилось его мыслью». Понять Ницше — значит, отбросив громкую фразу, пафос, эпатаж, эйфорию, проникнуть в самую суть его мышления, проникнуть в те глубины, где мысль зарождалась, сказать то, что он волил сказать, современным языком.
Можно без преувеличения сказать, что Мартин Хайдеггер заново открыл Ницше, увидел в странных, парадоксальных, филологических текстах «ниспровергателя» метафизики — глубокого наследника метафизики, разглядел ницшевскую мыслительность — процесс созидания мысли в связи с личностью мыслителя, увязал основополагающие понятия философии Ницше («нигилизм», «переоценка всех прежних ценностей», «воля к могуществу», «вечное возвращение того же самого», «сверхчеловек») в единое целое, обнаружил их глубочайшую внутреннюю взаимосвязь и взаимонеобходимость, выяснил скрывающиеся за парадоксами и двусмысленностями Ницше продуманность и естественность и, если хотите, пред-посланность (судьбу), укорененность идей Ницше в самой истории идей.
Здесь под пред-посланностью я понимаю и эволюционную необходимость, и судьбоносность, и возрастающую напряженность, и неизбежность свершения (смысл, вкладываемый в это понятие Хайдеггером).
Как всякий пишущий человек, Фридрих Ницше хотел быть понятым современниками, но никогда не ориентировался на их вкусы. Подобно другим гениальным интровертам, он не писал для читателей, а просто хотел выговориться: не распространить свои убеждения, не просветить ближних, не научить, а излить собственное «я». Такова, впрочем, цель всех «несвоевременных мыслителей». Читатель был необходим ему лишь как свидетель. Лев Шестов не без оснований назвал философию Ницше философией трагедии, и это очень многоплановое определение. Читатели — соучастники «случая Ницше», свидетели трагедии духа, страстного, безответного монолога страдающего и отверженного мыслителя.
Ницше писал книги не для того, чтобы учить, но для того, чтобы учиться. Эту цель пишущего я глубоко познал на самом себе и вполне мог бы повторить о себе максиму Одинокого мыслителя, каковым, в сущности, являюсь: «Вовсе не легко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими».
Как у Паскаля или Киркегора, философия Ницше неотрывна от его душевной жизни и имеет глубоко личный характер, делающий его тексты своеобразным духовным автопортретом. Это — глубоко исповедальная мудрость, перерабатывающая события жизни в интуиции духа, «невольная и бессознательная автобиография философа».
Переоценка ценностей, о которой Ницше так много писал, была не чем иным, как состоянием его индивидуального сознания. Знакомство с сочинениями Ницше есть лучший способ знакомства с его индивидуальностью. «Кто есть личность, — писал он, — имеет по необходимости философию своей личности».
Философия Ницше — это раскрытие внутреннего мира Ницше. По словам Лу Саломе, подобно тому, как отвлеченные систематики обобщали свои собственные понятия в законы мироздания, так Ницше отождествлял свою душу с мировой душой.

Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
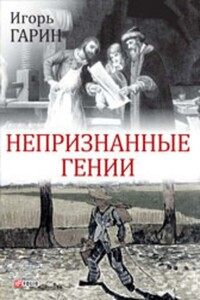
В своей новой книге «Непризнанные гении» Игорь Гарин рассказывает о нелегкой, часто трагической судьбе гениев, признание к которым пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий, объясняющих эту самую гениальность, начиная с теории генетической предрасположенности и заканчивая теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями, например, наличием синдрома Морфана (он имелся у Паганини, Линкольна, де Голля), гипоманиакальной депрессии (Шуман, Хемингуэй, Рузвельт, Черчилль) или сексуальных девиаций (Чайковский, Уайльд, Кокто и др.)
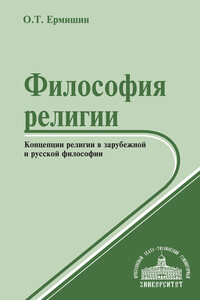
Учебное пособие подготовлено на основе лекционного курса «Философия религии», прочитанного для студентов миссионерского факультета ПСТГУ в 2005/2006 учебном году. Задача курса дать студентам более углубленное представление о разнообразных концепциях религии, существовавших в западной и русской философии, от древности до XX в. В 1-й части курса рассмотрены религиозно-философские идеи в зарубежной философии, дан анализ самых значительных и характерных подходов к пониманию религии. Во 2-й части представлены концепции религии в русской философии на примере самых выдающихся отечественных мыслителей.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.