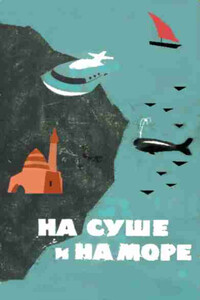Ницше - [236]
Для самого Луначарского имя Ницше стало символом разрушения буржуазного общества, а сверхчеловек — знаменем обновленного человечества, стандартом борца, сражающегося за «светлое будущее».
Объединив в некоей «триаде» Маркса, Ницше и Горького, Луначарский увидел в этом «явлении» знаменье времени: «…Борьба угнетенного класса за свои права, за жизнь, достойную человека, протест, наступление, натиск, возникающий из недр самого класса, во имя его требований — вот дух марксизма; провозглашение права на полное самоопределение, гордый вызов обществу и его устоям, подчеркивание прав личности на совершенствование и радость жизни, творчества» — вот то, что привлекает нас в Ницше, и ту же требовательность от жизни, тот же протестующий дух видим мы у Горького. «…Нам не интересны страдальцы, нам интересны протестанты… Как далеко ни разошлись материалисты и идеалисты молодого поколения, но честь индивидуума, его право на счастье, но протестующий дух соединяет их теперь», — писал он в 1903 году. «Ницше протестующий», «Ницше-жизнестроитель», «Ницше-революционер» — таким виделся он Луначарскому. Ницше, понятый подобным образом, как нельзя лучше подходил к «революционному мировоззрению», как нельзя лучше вписывался в ту картину мира, где нужно было как-то обосновать совершенную неуместность человеколюбия и неизбежность жестокости — ведь великие свершения требуют жертв, — где царит радость и веселие от головокружительных побед, где побеждают «достойные», а все старое, слабое «тает и сгорает в лучах огненного ярилы», как объяснял Луначарский несколько лет спустя в статье, написанной по поводу «Дачников» Горького. Именно здесь, упрекая Горького за излишнюю «жалостливость» к своим персонажам, автор изложил свою концепцию «человека» и, переведя поэтические символы Ницше на язык революции, сформулировал свою этику, основу которой составила «жестокость»: «Побольше, побольше жестокости нужно людям завтрашнего дня» — таков конечный вывод этой «новой» революционной морали.
Хотя М. Горькому — уже в советские времена — приходилось неоднократно открещиваться от обвинений в ницшеанстве, ему так и не удалось освободиться от ницшевских интонаций и прямых реминисценций типа: «Задача литературы: восстающего поддержи — чем энергичнее поддержите его, тем скорее окончательно свалится падающий». М. Меньшиков в статье «Красивый цинизм» без обиняков констатировал:
С чудесной стремительностью, совсем по-русски, нижегородский беллетрист «малярного цеха» принял евангелие «базельского мудреца» и… несет его как «новое слово».
Идеи Ницше, по мнению А. Эткинда, не были рассчитаны на практическую реализацию, но в русской утопии, черпавшей экстремизм из любых источников, они приобретали конкретный характер.
То, что для Ницше и большинства его европейских читателей было полетом духа и изысканной метафорой, которую лишь варвар может принимать буквально, в России стало базой для социальной практики.
Поскольку новый человек, поправший отживший здравый смысл, должен был сотворен именно в России, надо ли удивляться, что «человек — мост к сверхчеловеку» из метафоры стал постулатом иных теоретиков большевизма. Не очень чувствительные к логическим неувязкам, наши диалектики после партийных погромов с тем же чистосердечием называли сверхчеловека предтечей гитлеровских выродков. Пользуясь диалектическими вывертами, нетрудно осуществить синтез: человек → сверхчеловек → (коммунистический человек) → фашист. Это теория, практику вы знаете сами…
После бурного всплеска «русского ницшеанства» в начале XX века интерес к Ницше так же быстро угас. Место Ницше заняли Штайнер (антропософия) и Фрейд (психоанализ). После 1912 года имя Ницше почти исчезло в русской литературе.
Последней книгой о Ницше стал путаный и поверхностный опус Вересаева, в котором Аполлону приписаны черты Диониса и наоборот, где Ницше «тоскует по гармонии» и Толстой — словами Наташи Ростовой — проповедует ницшеанство. Ницше здесь изображен, как Достоевский, проклявший свое нутро, или, наоборот, как Бюхнер, это нутро воспевший…
Время
Что прежде всего и в конце концов требует от себя философ? Преодолеть в себе самом время, стать безвременным — вот с чем ему приходится выдерживать самую жестокую борьбу, которая все-таки делает его сыном своего времени.
Ф. Ницше
Воплощенная беспредельность мифического — Время.
П. Валери
Время у Ницше — не коса Сатурна, а шествие Диониса по Земле.
А. Аствацатуров
Итак, время Ницше — выход из времени в вечность. В вечный круговорот. Одна из главных идей «Заратустры» — вечный возврат. «Заратустру» и следует рассматривать под знаком музыки; эта музыка — гимн вечному возвращению.
Все возвращается — это верно, но при условии, что ничто не возвращается никогда.
Подразумевал ли «вечный возврат» Ницше «вечность» мгновения, повтор времени? Мне представляется, что такая трактовка неверна, ибо «колесо» не исключало эволюции.
Принцип вечного возвращения, примененный к времени, означает, что при наличии линеарного времени и исторической последовательности, в которой различаются прошлое и будущее, происходит уничтожение направленности и различимости времени: прошлое возвращается в настоящее, как более сильное, древнее, царственное, в каком-то смысле — вечное…

Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
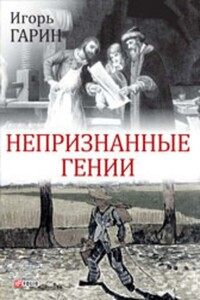
В своей новой книге «Непризнанные гении» Игорь Гарин рассказывает о нелегкой, часто трагической судьбе гениев, признание к которым пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий, объясняющих эту самую гениальность, начиная с теории генетической предрасположенности и заканчивая теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями, например, наличием синдрома Морфана (он имелся у Паганини, Линкольна, де Голля), гипоманиакальной депрессии (Шуман, Хемингуэй, Рузвельт, Черчилль) или сексуальных девиаций (Чайковский, Уайльд, Кокто и др.)

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.