Невидимый огонь - [6]
Сойдя вниз, он останавливается и, прищурив веки, обводит взглядом это сияние, искрящееся всеми цветами радуги, смотрит вокруг удивленный, пораженный, ослепленный, впивая взглядом акварельную ясность зимнего утра, изменившую до неузнаваемости привычный, наскучивший пейзаж. Наконец Войцеховский замечает и меня, коротким, пластичным жестом вскидывает пальцы к виску, к меховой шапке, и я, кое-как собрав свои скудные познания в польском, полушутя-полусерьезно отзываюсь:
— Dzien dobry, panie Woicechowsky!
— Куда-нибудь едем? — спрашивает он, уже открывая дверцу газика и предлагая свои услуги, но мне никуда ехать не надо, по счастью — никуда, да и что за охота ехать куда бы то ни было в такой день.
Сначала он ставит в машину чемоданчик, затем трость и тогда уж садится сам, делая все не спеша, с чуть замедленной, словно подчеркнутой, грацией, и хотя это слово «грация» может показаться неточным и неуместным, ведь речь идет о мужчине, причем пожилом и в придачу немножко хромом, может представиться еретическим или язвительным, мало того, может выглядеть насмешкой над здравым смыслом и понятием красоты, отдавать просто ерничеством, пустозвонством — да, хоть все это может так выглядеть и представляться, казаться и восприниматься, я не нахожу другого, более верного обозначения для легкости и свободы движений Феликса Войцеховского, что сродни пластичности как балетного танцовщика, так и дикого животного, и за внешней легкостью прячет целенаправленность, выносливость и физическую силу.
Сев в машину, Войцеховский берется за ручку дверцы. Секунда — и та захлопывается, еще секунда — колеса приходят в движение, взметая облако рыхлого снега, и… Но в этот момент, в этот самый последний момент из калитки Каспарсонов стремглав выбегает Лелде и, махая рукой, бежит следом. Портфель застегнут всего на один замок, пальто — всего на одну пуговицу, а шарф только захлестнут, он реет и пляшет, на бегу и от тряски живого движенья разматывается все больше и больше — ярко-красный на снежной белизне, как цветущий мак, бьющийся в ритме бега, как струя крови. Автобус, конечно, ушел, на первый урок она, само собой, опоздала, и счастье еще, что на свете есть Войцеховский, такой старичок Феликс Войцеховский со своим служебным драндулетом, на котором, может, и удастся догнать автобус. Ой, да не прогулять бы хоть второй урок, физику — ведь физику ведет классный руководитель!
Лелде, спотыкаясь, вваливается в газик, часто дыша, падает на сиденье рядом с Войцеховским, запыхавшаяся, не в силах ни поздороваться, ни вообще вымолвить слово, она только счастливо улыбается белозубым ртом сквозь клубы пара, которые прерывисто возникают и рассеиваются, вырываются изо рта, и жемчужно-розовые, тают в студеном воздухе.
И вновь рука тянется и захлопывает дверцу, и газик снова трогает с места, и опять взметает белый вихрь снега. И мне видно зажатый в дверце кончик красного шарфа, он вздрагивает в такт движению как высунутый язычок. Подпрыгивая на расчищенных ледяных ухабах, газик быстро набирает скорость и уходит все дальше, и по мере его удаления кончик шарфа превращается в живое, дрожащее маленькое пламя и на повороте, словно его вдруг задули, мгновенно гаснет.
ТЮРЬМА, ИЛИ РАССКАЗ О ЛЕЛДЕ,
И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ,
НО ТАКЖЕ ОБ АВРОРЕ И АСКОЛЬДЕ
— С-смотри… П-посмотри! — восклицает он тихим, приглушенным голосом, как всегда в минуты сильного волнения чуть заикаясь, и весь он — сплошное удивление, невероятное изумление, оно струится и льется, лучится и рвется из совершенно круглых зрачков его расширенных глаз. — Видишь? В-вон!
Но Лелде уже и сама видит.
В темных недрах воды мелькает и движется что-то блестящее, глянцевое, точно белыми огнями горящее, то и дело мигающее, искры мечущее, похожее на яркую звезду и серебряно-ершистую рыбу одновременно; скользя мимо них, оно играет огнем и пламенем и, сверкая, мерцая, уходит под кромку льда, скрываясь из виду и больше не показываясь ни разу, ни на секунду, хотя они во все глаза глядят ему вслед, туда, где только что все это было. Но там ничего больше нет — сгинуло, пропало.
— Ты в-видела? — опять шепчет Айгар, уже слабо веря, что все это ему не почудилось, что это не обман зрения, не фокус, не ловкий, эффектный трюк из «Занимательной химии».
— Что? — переспрашивает Лелде машинально, не думая о том, что произносят ее губы. — Что? — словно во сне повторяет она вновь и наконец приходит в себя: — Это была оляпка,
— Оляпка? Ты скажешь!
— Это оляпка.
— Откуда ты взяла?
— Я знаю.
Она не объясняет, где она это вычитала или от кого слышала, она говорит просто и уверенно «я знаю», говорит так, будто знала всегда, с незапамятных времен, и даже раньше, будто родилась с этим знанием. Это так странно, что Айгар смеется, и Лелде поднимает на него глаза. Уши его заячьей шапки, наверху не связанные, распались и свисают вниз на разной высоте. На носу горят янтарем первые ранние веснушки, на белой коже они кажутся выпуклыми, и глаза его, обычно темно-серые, глядят сапфирами, кончик носа замерз, посинел и блестит, а из воротника пальто торчит длинная, по-мальчишески тонкая шея, какая-то беспомощно, трогательно тонкая и до того худая, что внушает Лелде почему-то жалость. Почему? И все же, глядя на его шею, эту комично тонкую шею, Лелде не смеется — ее охватывает теплое и вместе с тем щемящее чувство. Грусть заволакивает ее лицо дымкой, стирая с него детские черты и как бы намечая сеть будущих складок и морщин, что делает его чужим — непривычно серьезным и удивительно взрослым. Ее рот складывается в мягкую болезненную улыбку, предназначенную Айгару и не предназначенную никому, и Айгар, который никогда не отличался интуицией — чем-чем, но только не чутьем, — вдруг каким-то шестым или седьмым чувством угадывает, почему Лелде сошла с автобуса на одну остановку раньше и теперь стоит на мосту и никуда не идет, стоит на мосту через Выдрицу на пятнадцатиградусном морозе и не двигается с места и даже ничего такого не говорит. Ей не хочется идти домой!
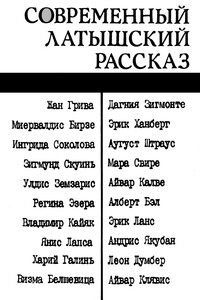
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
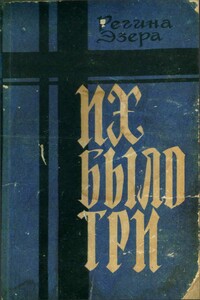
Роман «Их было три», несомненно, представит интерес для русского читателя. Он заставит задуматься над сложностью человеческих отношений, глубже попять необходимость борьбы с частнособственнической психологией и другими пережитками прошлого.
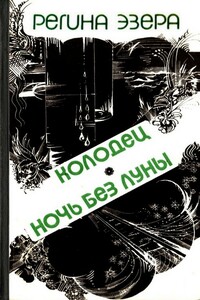
В романе «Колодец» раскрывается характер и судьба нашей современницы, сельской учительницы, на долю которой выпали серьезные женские испытания. В повести «Ночь без луны» события одной ночи позволяют проникнуть в сложный мир человеческих чувств.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
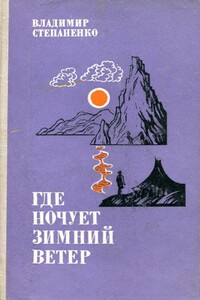
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.
