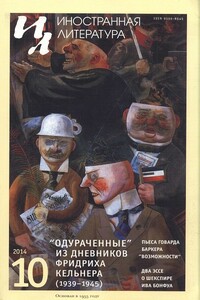Невероятное (избранные эссе) - [8]
Вот камень — великий служитель, без которого все погибло бы, захлебнувшись горем и ужасом. Вот жизнь, которая не страшится смерти>{10} (тут я пародирую Гегеля) и вновь обретает себя в ней самой. Чтобы постигнуть этот камень и эту жизнь, нужен иной язык, чем у понятия, иная вера. Понятие перед ними умолкает, как разум при появлении надежды.
Передо мной — главная книга нашей поэзии, «Цветы зла». Ни в какой другой истина слова, высшая форма истинного, не представала с такой ясностью. Для меня эта истина — настоящий свет. Белые, черные, серые оттенки Гамлета Делакруа>{12}, а за ними — какой-то немыслимый, запредельный багрянец. Истина слова — за пределами любой формулы. Она — сама жизнь духа, и уже не на странице, а в реальности. Первозданная, вышедшая из глубин души, не совпадающая со смыслом слов и превосходящая силой любые слова.
Но, кажется, именно истина бодлеровского слова и удерживает от разговоров о Бодлере. Что сказать о нем, кроме пустяков, неточностей, а то и лжи? Самая проницательная критика отступается и признает абсолютность им созданного. Самое воинственное недоброжелательство бьет здесь мимо цели и только выставляет себя на смех. А измученного Бодлера уместней и вовсе оставить в покое. Он искал всеобщего. И имеет полное право раствориться в нем, словно музыка, исчезнуть в тумане.
Но случается, дух и вправду обретает плоть: человек, признающий своей целью только истину, находит в себе силу выдержать жестокие испытания. Непониманием современников он огражден от всего заурядного и сомнительного. Сведен к лучшему в себе и наиболее скрытому от них, — став изваянием самого духа. Вынужден быть сущностью и потому принадлежать каждому.
Такова судьба Бодлера. Он стал достоянием всех. И образцовой жизнью заслужил наши безостановочные вопросы.
Я спрашиваю себя, почему истина слова проявилась именно в «Цветах зла».
Если бы эту истину можно было определить по-другому, не отсылая к ее абсолютной инаковости, к ее предельной — как в негативной теологии — природе, я бы назвал ее согласованностью. В голосе истины тут слышен другой, более глубокий, который вторит голосу говорящего. Самый чистый из трех, он радуется себе в каждом слове. Сущее и должное на миг перестают исключать друг друга. Наступает недолгой покой.
Но откуда это умиротворение, такое частое в «Цветах зла» — где на высоте устремлений, самых безудержных и смутных, столько враждующих начал непрерывно и безуспешно преследуют друг друга и ни в чем нет спокойствия? Чисто религиозное объяснение я отвожу сразу. Никаких верований Бодлер не разделял и впрямую не исповедовал. И ни одна из ересей не стоит за «Отречением Святого Петра» и «Литаниями Сатане».
Однако и в том, что бесспорно принадлежит Бодлеру, — в его языке, в поставленных перед собой задачах, — нет, кажется, ничего, способного дать жизнь истине, которая говорит его устами. Если выделить главное в поэтической формы «Цветов зла», то это стихи из разряда рассуждений. Четкие описания, логичные мысли, точно выраженные чувства связаны лишь понятийной связью, иначе говоря, мало озабочены тем, что ускользает от слов. Чем тогда Бодлер отличается в своем искусстве от Гюго? Даже если их замыслы и цели несопоставимы, инструмент у обоих один.
В том и состоит загадка Бодлера. Его область — рассуждение, словесная постройка, из-под свода которой порывался бежать Малларме и где слишком часто находила приют наша поэтическая традиция. А рассуждение грозит самыми опасными ловушками и никак не приближает к истине. Я бы даже говорил об имморализме рассуждения. Оно остается всего лишь игрой. Начинаясь в сосредоточенной тишине, рассуждение дает любому чувству простейшую возможность высказаться. Но, становясь стихотворением, позволяет тому же чувству — притом без малейшего ущерба для говорившего — с не меньшей легкостью расточиться.
И пусть даже последний искренен, разве в этом дело? Прежде чем принести покой, истина ведет через жестокие испытания. А речь, не подвергающая себя риску, это чаще всего риторика, иначе говоря, ложь, — грех, в котором поэзию не раз — и по праву — обвиняли.
Ложь рассуждения — в устранении крайностей. Рассуждение связано с понятием, которое ищет в сущности вещей их устойчивость, надежность, освобожденность от небытия. А крайность — это испытание сущности на разлом, забвение себя и всего на свете, даруемые небытием радость и мука.
Понятие затушевывает смерть. И рассуждение лживо именно тем, что исключает из мира одно-единственное: смерть, а потому сводит на нет и все остальное. Мир существует только силой смерти. Истинно лишь то, что удостоверено смертью.
Если поэзии без рассуждения не бывает, — а это признает даже Малларме, — то что может спасти ее истину, ее высоту, кроме обращения к смерти? Кроме неукоснительного требования выразить смерть и, больше того, заставить ее саму взять слово? Но для этого нужно сначала отказаться от житейских радостей и мук. Потом говорящий должен полностью отождествиться со смертью.
Этот невероятный шаг и сделал Бодлер. Он назвал смерть по имени. Но что она для него значила? Неотвязную мысль? Телесное страдание, у которого есть свои пределы? Нередко — и после Бодлера мы чувствуем это снова — поэзия в самом деле равнозначна опасности. К тому же в нас всегда коренится физическая смерть. Ее надо только осознать.

«…Итак, желаем нашему поэту не успеха, потому что в успехе мы не сомневаемся, а терпения, потому что классический род очень тяжелый и скучный. Смотря по роду и духу своих стихотворений, г. Эврипидин будет подписываться под ними разными именами, но с удержанием имени «Эврипидина», потому что, несмотря на всё разнообразие его таланта, главный его элемент есть драматический; а собственное его имя останется до времени тайною для нашей публики…».

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».