Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1 - [22]
Учить не учили, но на вошедших в каждогодний обиход предосенних, зимних и предлетних двух-, а то и трехдневных учительских конференциях лились потоки красноречия: это представители Унаробраза, Губнаробраза и прибывшие из Москвы методические светила рассуждали о том, как надо учить по-новому, о необходимости срочной замены парт столами и скамейками и о прочих столь же насущных нововведениях. Впоследствии одни новшества заменялись другими, сама жизнь заставляла многое новое заменять старым, давным-давно проверенным на опыте, но вот поди ж ты: учительские конференции оказались живучими, как бурьян. Нужды нет, что аудитория уже много лет не слушает докладчиков и напоминает огромный шмелиный рой. Нужды нет, что конференции выродились в нудную пустопорожнюю формальность, – канитель тянется по сей день. Начальство не представляет себе, как можно приступить к занятиям в новом учебном году без конференции, равно как оно не представляет себе 1 мая или 7 ноября без людских стад на улицах. Одна игра – не потеха. О нет! Для иных потешной может быть только одна какая-нибудь игра. Боже упаси заменить ее новой или хотя бы отменить, потому что она давным-давно осточертела. В нас ухитряются уживаться Стенька Разин и преющий в охабне допетровский боярин. Нам могли бы позавидовать Аттила и царский сановник из самых ярых охранителей и рутинеров. Мы являем собой противоестественное сочетание безудержного и безоглядного вверхтормашества, страсти к беспрерывному шиворот-навывороту – от сельского хозяйства и школьных программ и до названий улиц и городов, – с неподвижностью лежачих камней.
Вокруг слабовольного Народного комиссара по просвещению Луначарского тучами болотно-лесной мошкары тотчас начали виться выдававшие себя за реформаторов и новаторов прожектеры вроде Блонского, до Октябрьской революции известного своими религиозными воззрениями, а после поспешившего объявить себя материалистом, – одного из тех оборотней и перевертней, одного из тех мыльных пузырей, что вздувались после переворота и довольно скоро лопались, – в первом издании Большой Советской Энциклопедии о нем хоть и холодно, но говорится, а во втором издании автору «Трудовой школы» и «Педологии» места уже не нашлось.
В своей пространной речи на уездной учительской конференции о принципах Единой трудовой школы кто-то из калужских последователей Блонского не коснулся преподавания иностранных языков. В перерыве моя мать обратилась к нему за разъяснениями.
– О, для преподавателей иностранных языков в Единой трудовой школе открывается широчайшее поле деятельности! – живо откликнулся советский Песталоцци. – Предположим, вам предстоит дать урок немецкого языка, а перед вами в этом же классе давал урок преподаватель физики. Вы входите в класс и прислушиваетесь. Учащиеся оживлены, у них блестят глаза, они все еще переговариваются. Вы спрашиваете, что́ их так занимает. Оказывается, их увлек опыт, который им только что показал преподаватель физики. Вот вы и подхватите эту тему и начните говорить с учащимися о том, что их интересует, по-немецки. Так! между вами и учащимися сразу установится живая связь, а ваш урок явится естественным продолжением предыдущего.
– Да, но как же я буду говорить по-немецки о явлениях» изучаемых физикой, с теми учениками, которые еще «Guten Tag» не умеют как следует произнести? – робко возразила моя мать.
«Блонскист», сделав вид, что его вызывают по делу, ретировался.
Школу разваливала не только революция. Школу разваливали ее спутники: холод и голод. Зимой учителя и ученики снимали в школе только головные уборы. Учителя превратились в хлебодаров. Установились дежурства: дежурные учителя резали, взвешивали и раздавали ученикам хлеб, раздавали «фунтики» с сахарным песком. Когда уж тут заниматься? Да ведь и не всегда удается побороть унизительное, но такое настойчивое желание ощутить языком и небом вкус пищи. Учитель рассказывает о тропической флоре и фауне, а сам думает, как бы растянуть кусок хлеба со жмыхом до завтрашнего утра и что у него осталось чуть-чуть чаю-суррогату, а там придется перейти на кипяток. Но если трудно заставлять себя забывать о голоде учителям, то что же спрашивать с учеников? К ученью глухо не только сытое, но и голодное ученическое брюхо. Какая уж тут наука! Кому пойдут на ум склонения и спряжения, когда в животе петухи поют?
Чтобы получить право на кусок хлеба, на пакетик («фунтик») сахарного песку и на обед, состоявший из одного блюда (иногда это был жидкий кулеш, иногда кулеш с кусочком или всего лишь с запахом селедки – такое блюдо казалось нам особенно лакомым, иногда «сладкий суп», то есть попросту компот), – чтобы иметь право на все эти яства, я пошел в школу рано: осенью 19-го года, когда мне еще не было семи лет, я поступил в первый класс «Единой трудовой».
Пока я учился в младших классах, школа претерпевала многоразличные изменения и неоднократно переименовывалась, подобно тому как менялись и наименования самой преподавательской профессии. Слово «учитель» шибало в нос реформаторам чем-то старорежимным. И вот учителей перекрестили в «шкрабов» (школьных работников) – свирепствовавшая тогда эпидемия условных сокращений коснулась и учителей. Впрочем, «шкрабы» были вскорости заменены более благозвучными и не допускавшими иного толкования «просвещенцами». Школа подразделялась на первую и вторую «ступени», соответствовавшие начальной и средней школе, вторая «ступень» – на первый и второй «концентры». «Концентр» не так-то просто было выговорить натощак учителям, а каково приходилось ученикам и родителям, по преимуществу – писцам, мастеровым, огородникам, бывшим приказчикам и купцам! Ничего, ничего! Пусть ломают языки, пусть выворачивают скулы! И не беда, что слово бессмысленное, лишь бы оно было ново и лишь бы это было не русское слово! Интернационализм – так интернационализм, черт побери! «Пальнем-ка пулей в Святую Русь», а заодно изрешетим и русский язык. Над «концентрами» возвели надстройку: «Перемышльский педагогический техникум». Справедливость требует заметить, что наблюдалось и обратное явление: производилась замена варваризмов русскими словами, но это для того, чтобы ничто не напоминало о царской школе. Так, во главе школы стояли теперь не директора, а «заведующие», «завшколами». Глава техникума в официальных бумагах и речах именовался «завперпедтех».

Третий том воспоминаний Николая Михайловича Любимова (1912—1992), известного переводчика Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в себя главу о Пастернаке, о священнослужителях и их судьбах в страшные советские годы, о церковном пении, театре и литературных концертах 20—30-х годов ХХ века. В качестве приложения печатается словарь, над которым Н.М.Любимов работал всю свою литературную жизнь.
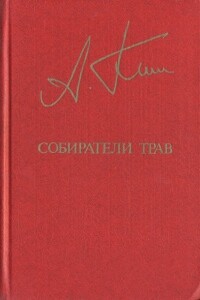
Анатолия Кима трудно цитировать. Трудно хотя бы потому, что он сам провоцирует на определенные цитаты, концентрируя в них концепцию мира. Трудно уйти от этих ловушек. А представленная отдельными цитатами, его проза иной раз может произвести впечатление ложной многозначительности, перенасыщенности патетикой.Патетический тон его повествования крепко связан с условностью действия, с яростным и радостным восприятием человеческого бытия как вечно живого мифа. Сотворенный им собственный неповторимый мир уже не может существовать вне высокого пафоса слов.Потому что его проза — призыв к единству людей, связанных вместе самим существованием человечества.
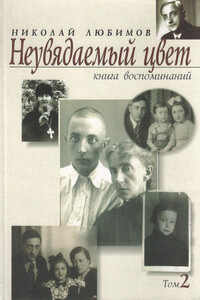
Второй том воспоминаний Николая Любимова (1912-1992), известного переводами Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в себя драматические события двух десятилетий (1933-1953). Арест, тюрьма, ссылка в Архангельск, возвращение в Москву, война, арест матери, ее освобождение, начало творческой биографии Николая Любимова – переводчика – таковы главные хронологические вехи второго тома воспоминаний. А внутри книги – тюремный быт, биографии людей известных и безвестных, детали общественно-политической и литературной жизни 30-40-х годов, раздумья о судьбе России.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
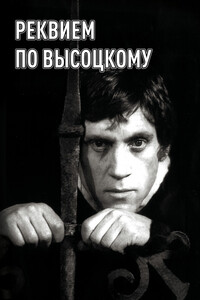
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.