Непроливашка - [4]
Федотыч уже дважды заходил в кабинет – будто бы приглядеть за печкой. И наконец он не выдерживает:
– А что, батюшка, никак весточка от Константина Андреича?
– От него, от него! – радостное возбуждение опять встряхивает Андрея Гаврилыча, прогоняет сонливость. – Пишет, что все у него хорошо, высочайшим повелением он и два других гардемарина произведены в мичманы, был получен указ в Петропавловске… И тебе кланяется, Федотыч.
– Значит, помнит старика…
– Как не помнить, ежели ты его еще во младенчестве на плечах таскал!.. Федотыч, вот что! Негоже сидеть просто так, когда сын получил офицерское звание! Иди к Авдотье и скажи, чтобы достала бутылку шампанского. И два хрустальных бокала! Да пусть не вздумает крик подымать, а то я ей…
Скоро бокалы оказываются на письменной доске скрипучего бюро. Пробка пистолетной пулею летит в угол, пена шипит, тонкое стекло наполняется пузырчатым янтарем.
– Федотыч, бери бокал!
– Батюшка, негоже мне господское-то вино пить, не по чину…
– Ладно тебе, «не по чину»! Первый раз, что ли? Забыл, как в четырнадцатом году, в Париже?
– Как забыть! Да тогда ведь за государя…
– А теперь за Костиньку! За мичмана Константина Андреича Трубчинского!
Федотыч берет хрусталь корявыми пальцами.
– Оно конечно. Дай ему Господь всяких радостей…
Граф стоя смотрит на акварельный портрет, потом по-гусарски опрокидывает в себя вино. Разом, до дна. Со стуком ставит бокал, а левой рукой делает взмах, словно хочет показать: мы все такие же, как в молодости! Взмах слишком широк. Рукав шлафрока летит над бюро и цепляет на приборе чернильницу. Чернильница катится на пол. Медная крышка отлетает к печке, а фаянс раскалывается, как ореховая скорлупа. Черная, окруженная частыми кляксами лужица блестит на паркетных плашках.
– Батюшка, вот беда-то!
– Что за беда! Если что-то бьется, это к счастью! – заявляет граф. И с размаха садится в кресло.
– Да ведь прибор-то еще вашего дядюшки Аполлона Евстафьевича, царство ему небесное…
– Дядюшке уже все равно. А для чернил ты сыщешь какую-нибудь склянку…
– Оно так, сыщу… Марфушку надо позвать, чтобы затерла, пока не высохло.
– Успеется. Ты пей давай. У нас еще вон сколько в бутылке…
…Написал я эту историю и теперь думаю: зачем? По законам литературы, по строгим правилам сюжета и композиции она совершенно не нужна. Никакого отношения к дальнейшим событиям повести не имеет. Сперва я хотел только объяснить, почему на приборе нет чернильницы, а все это вылилось в долгий рассказ. Почему? Может быть, потому, что рядом с прибором стоит бронзовая статуэтка мореплавателя Крузенштерна, лежат раковины с южных островов, а над головой колышутся от сквозняка паруса корабельной модели? Или просто потому, что недавно я дал себе обещание писать, «как Бог на душу положит»? То есть вольно и безоглядно, все, что придет в голову. Говорят, что в мемуарах это позволено, а данная повесть – явно мемуарная. Воспоминания о давнем… Однако Андрей Гаврилыч Трубчинский к воспоминаниям отношения не имеет, я же его просто придумал… Может, вычеркнуть эти страницы? Но мне почему-то их жаль. Жаль расставаться с пожилым графом, со старым Федотычем, с уютным кабинетом, где потрескивает кафельная печка и висит акварельный портрет морского кадета Костиньки. Все, что сочинилось, я вижу, как наяву. И это помогает мне писать дальше. Уже про то, что было по правде.
2.
Однажды моя жена вернулась с вещевого рынка (иначе говоря, с «барахолки») и сказала:
– Я принесла тебе подарок. Смотри…
Она протянула мне на ладони маленькую чернильницу («чернилку», как говорили мы в давние школьные годы).
Большинство нынешних ребят про такие чернилки и не знает. А в середине двадцатого века они были у каждого школьника. Делались чернилки из пластмассы, из стекла, из фаянса. Снаружи – этакие стаканчики ростом со спичечный коробок, а внутри у них стенки сужались воронкой. Чернил наливалось немного, так, чтобы горлышко воронки не погружалось в них. Если чернилку клали на бок или переворачивали, содержимое ее оказывалось за краями воронки и не выливалось наружу. Отсюда и название – «непроливашка». Оно употреблялось даже чаще, чем «чернилка».
Самыми солидными были фаянсовые непроливашки. Делали их еще в довоенные времена, но многие из них дожили до сорок пятого года, когда автор этой повести пошел в первый класс. Иногда на белых блестящих боках красовались цветные картинки – как на чайной посуде. Цветочки, утята, пионеры с горнами, снежинки. А были и попроще: совсем без рисунков или с полосками по краю. Как раз такую и подарила мне жена – белую, с тонкими синими каемками у верхней кромки.
– У меня была в точности такая же!
– И у меня была похожая…
– А эту ты где откопала?
– Да у старичка, среди тех, что сидят у забора.
Вдоль забора барахолки всегда рассаживались продавцы всякой мелочи, раскладывали товар на кусках мешковины. У этих стариков и тетушек можно было найти дверные петли и всякие инструменты, шурупы всех размеров и старые граммпластинки, подсвечники и шкатулки из ракушек, старинные пятаки и блюдца от разбитых сервизов… Немудрено, что там оказалась и непроливашка.

Пятиклассник Женька Ушаков – герой повести из цикла «Сказки о парусах и крыльях» – попадает на таинственный остров Двид, и необходимость помочь своим новым друзьям-островитянам вовлекает его в невероятные приключения.

Герои знаменитого романа из цикла «Острова и капитаны» – 10-13-летние моряки и фехтовальщики отряда `Эспада`. Справедливость и доброта, верная мальчишеская дружба и готовность отстаивать правду и отвечать за свои поступки – настоящий кодекс чести для этих ребят, которые свято следуют ему в своей непростой жизни, реальной, но удивительным образом граничащей со сказкой…
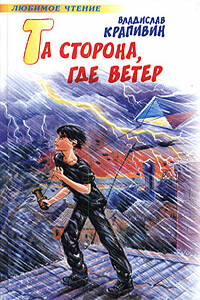
Владислав Крапивин – известный писатель, автор замечательных книг "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой", "Мушкетер и фея", "Стража Лопухастых островов", "Колесо Перепелкина" и многих других.Эта повесть – о мальчишках с верными и смелыми сердцами. О тех, кто никогда не встанет к ветру спиной. Даже если это очень сильный ветер…
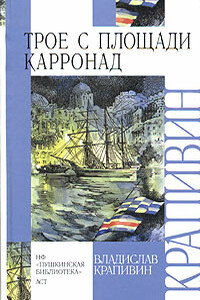
Владислав Крапивин — известный писатель, автор замечательных книг «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Стража Лопухастых островов», «Колесо Перепёлкина» и многих других.В этой повести рассказывается о мальчишке, который всю жизнь мечтал попасть к морю. И, наконец, его мечта сбылась — он оказался в городе, где все связано с флотом.

Эта повесть – история приключений двух озорников: щенка, который очень хотел найти своего настоящего хозяина, и мальчика Уголька, всю жизнь мечтавшего о верном друге.

Фантастическая повесть из цикла «В глубине Великого Кристалла».По жестоким и несправедливым правилам, действующим в государстве, Корнелий Глас должен быть казнен. В ожидании исполнения чудовищного приговора он знакомится с ребятами из тюремного интерната, которые рассказывают ему старинную сказку о легендарной земле, где можно спастись от беды… Поняв, что это не вымысел, Корнелий решается бежать, взяв с собой новых друзей. От Петра, настоятеля древнего Храма, он узнает предание о великих Хранителях вечных Законов Вселенной, учителях и защитниках всего мира.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
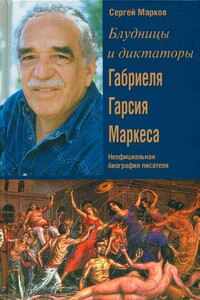
Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

В этой повести Владислава Крапивина рассказывается о первом путешествии автора за пределы родной Тюмени. Ведь для первоклассника даже посещение соседних сел Парфёново и Юрты может стать самым настоящим приключением…

Этот сборник объединяет в себе произведения, созданные автором на протяжении нескольких десятилетий. В него вошли художественные и документальные повести-воспоминания, в которых переплелись эпизоды послевоенного детства автора и события взрослой жизни, истории создания книг и встреч с прототипами их героев на улицах разных городов…

В воспоминаниях о своем детстве писателя Владислава Крапивина переплелись реальность и фантазии, явь и сон. Ведь грань между ними так зыбка! Но именно смешение реальности и выдумки позволяет читателю заглянуть в удивительный мир любопытного дворового мальчишки…

Самая обычная жизнь школьников – полна серьезными испытаниями силы духа, чести, преданности долгу и своим убеждениям, ведь тот, кто верен правде, готов к подвигу всегда.