Неправильное воспитание Кэмерон Пост - [33]
– Если б я могла… – Она начала закрашивать сердечко, и ручка приятно щекотала кожу. – Но я буду писать тебе.
– Только не открытки, если не хочешь, чтобы Рут их читала, – предупредила я, когда она закончила мою новую и, к счастью, временную татуировку.
Она подписала под ней свое имя. Потом вытащила фотоаппарат, который подарил ей отец, как можно дальше отставила руку и, прицелившись, сделала несколько снимков, как целует меня в щеку, а я просто смотрю в объектив, точно на модных когда-то снимках из фотобудок. Потом она сказала:
– Ты меня поцелуешь или как?
И я ее поцеловала. Щелчок, вспышка озаряет нашу кабинку, и вот, готово: теперь мои близкие отношения с девушкой зафиксированы на пленку. Линдси убрала фотоаппарат в сумку, а я все думала о том, что у него внутри, что он носит в себе нашу тайну, появление которой на свет неизбежно.
– Тебе, наверное, глаз будет не поднять со стыда, когда пойдешь в проявку за фотографиями? – спросила я, пытаясь представить, как сама забираю подобные снимки у бородатого Джима Фишмэна в его фотосалоне: как он протягивает мне конверт через прилавок, дает сдачу, а его большой лоб краснеет от тщетных попыток притвориться, что он не видит, как я целую девушку на фото в его дрожащей руке.
– С дуба рухнула? Да есть куча мест, где мне будут аплодировать стоя, приговаривая: «Так держать, лесбияночка!»
Линдси снова принялась втирать про гордое племя лесбиянок, и если в начале лета я слушала затаив дыхание, то теперь мне были известны все слабые места в ее теориях. (А еще она постоянно повторяла фразу «с дуба рухнула» – невероятно глупую, но ужасно заразную.)
Когда мы вышли из кабинки, стайка девушек из старшего дивизиона стояла у раковин и наблюдала за нами, скрестив руки на груди, причем некоторые из них до сих пор не сняли мокрые купальники. Никого из моей команды я не увидела, зато заметила несколько девчонок из команды Линдси. Они ехидно ухмылялись и щурили глаза, всем своим видом выражая крайнее неодобрение. Мне сперва показалось, что они смотрят на что-то за нашими спинами и сейчас поделятся, какую же мерзость там углядели. Мы с Линдси были первоклассными пловчихами, часто побеждали, и это давало нам особый статус в обществе. Однако, мельком обернувшись, я поняла, что заблуждалась.
– Ну все, теперь я не пойду переодеваться, – сказала одна девушка из команды Линдси, крикливая Мэри-Энн-Как-ее-там. – Не хочу, чтобы меня снова изнасиловали взглядом.
Остальные фыркнули, выразив ей свою солидарность, отвернулись, словно не могли больше выносить нашего присутствия, и стали перешептываться достаточно громко, чтобы мы расслышали слова «лесбухи» и «ужас».
Линдси шагнула к ним и сказала что-то, что начиналось словами:
– Держи карман шире, сучка…
Конца этого предложения я не помню, потому что рванула прямо к двери и вылетела на площадку перед бассейном, гулко шлепая по мокрому бетону. После темного сумрака цементных раздевалок яркое солнце слепило глаза, и я прищурилась, всматриваясь в размытые силуэты людей, стоявших на свету. Но щурилась я не только из-за солнца: мне еще никогда не было так стыдно. До этого момента мне не составляло труда убедить себя, что никто не знает обо мне, о нас с Линдси. Я думала, что если не буду говорить об этом вслух, то смогу сохранить нашу тайну от всех, кроме нас самих, Бога и моих родителей, которые, как мне иногда казалось, наблюдают за мной с небес.
Где-то секунд через двадцать появилась Линдси. Она попыталась взять меня за руку, но я отдернула свою и испуганно огляделась: не заметил ли кто? Никто не заметил. У бассейна царила обычная суета, которая следует за соревнованиями. Все наводили порядок; блестевшие от масла спасатели сматывали волногасители, стайка тренеров толпилась вокруг стола с наградами, раскладывая ленты девяти цветов по толстым коричневым конвертам. Тем летом Федерация добавила цвета, отмечающие седьмое, восьмое и девятое места: перламутрово-розовый, темно-фиолетовый и, как выражались пловцы, какашечно-коричневый.
Тренер Тед заметил меня и помахал рукой. Я пошла к нему и услышала тихий голос Линдси, которая двинулась следом:
– Не стоит так злиться. Они всего лишь тупые суки.
– Угу. Тому, кто сядет завтра в самолет и отвалит в свой Сиэтл, легко говорить. – Я пыталась разозлиться, но из-за этого чувствовала себя еще хуже.
– Можно подумать, в Сиэтле нет гомофобов.
– Судя по твоим рассказам, нет.
– Очнись, Кэм, – повысила она голос. – Это тебе не Сан-Франциско. Конечно, там несколько лучше, чем здесь, но и все.
– Вот именно, – пробормотала я себе под нос, когда мы приблизились к столу. Никогда еще я не завидовала никому так сильно, как Линдси.
Тед широко улыбался своей победоносной улыбкой, и я увидела свое отражение в его зеркальных солнцезащитных очках: волосы взъерошены, лицо перекошено после финального заплыва баттерфляем и поцелуев в раздевалке. Он обнял нас своими волосатыми ручищами. Пахло от него потом и пивом, которое он непринужденно потягивал из большого пластикового стакана, несмотря на таблички «Распивать алкогольные напитки воспрещается», развешанные на каждом шагу.

«…Любое человеческое деяние можно разложить в вектор поступков и мотивов. Два фунта невежества, полмили честолюбия, побольше жадности… помножить на матрицу — давало, скажем, потерю овцы, неуважение отца и неурожайный год. В общем, от умножения поступков на матрицу получался вектор награды, или, чаще, наказания».

«Варшава, Элохим!» – художественное исследование, в котором автор обращается к историческому ландшафту Второй мировой войны, чтобы разобраться в типологии и формах фанатичной ненависти, в археологии зла, а также в природе простой человеческой веры и любви. Роман о сопротивлении смерти и ее преодолении. Элохим – библейское нарицательное имя Всевышнего. Последними словами Христа на кресте были: «Элахи, Элахи, лама шабактани!» («Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!»).

В спальных районах российских городов раскинулись дворы с детскими площадками, дорожками, лавочками и парковками. Взрослые каждый день проходят здесь, спеша по своим серьезным делам. И вряд ли кто-то из них догадывается, что идут они по территории, которая кому-нибудь принадлежит. В любом дворе есть своя банда, которая этот двор держит. Нет, это не криминальные авторитеты и не скучающие по романтике 90-х обыватели. Это простые пацаны, подростки, которые постигают законы жизни. Они дружат и воюют, делят территорию и гоняют чужаков.

Детство – целый мир, который мы несем в своем сердце через всю жизнь. И в который никогда не сможем вернуться. Там, в волшебной вселенной Детства, небо и трава были совсем другого цвета. Там мама была такой молодой и счастливой, а бабушка пекла ароматные пироги и рассказывала удивительные сказки. Там каждая радость и каждая печаль были раз и навсегда, потому что – впервые. И глаза были широко открыты каждую секунду, с восторгом глядели вокруг. И душа была открыта нараспашку, и каждый новый знакомый – сразу друг.

После развода родителей Лиззи, ее старшая сестра, младший брат и лабрадор Дебби вынуждены были перебраться из роскошного лондонского особняка в кривенький деревенский домик. Вокруг луга, просторы и красота, вот только соседи мрачно косятся, еду никто не готовит, стиральная машина взбунтовалась, а мама без продыху пишет пьесы. Лиззи и ее сестра, обеспокоенные, что рано или поздно их определят в детский дом, а маму оставят наедине с ее пьесами, решают взять заботу о будущем на себя. И прежде всего нужно определиться с «человеком у руля», а попросту с мужчиной в доме.

После смерти своей лучшей подруги Ингрид Кейтлин растеряна и не представляет, как пережить боль утраты. Она отгородилась от родных и друзей и с трудом понимает, как ей возвращаться в школу в новом учебном году. Но однажды Кейтлин находит под своей кроватью тайный дневник Ингрид, в котором та делилась переживаниями и чувствами в борьбе с тяжелой депрессией.
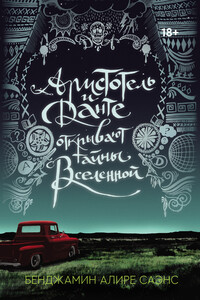
Аристотель – замкнутый подросток, брат которого сидит в тюрьме, а отец до сих пор не может забыть войну. Данте – умный и начитанный парень с отличным чувством юмора и необычным взглядом на мир. Однажды встретившись, Аристотель и Данте понимают, что совсем друг на друга не похожи, однако их общение быстро перерастает в настоящую дружбу. Благодаря этой дружбе они находят ответы на сложные вопросы, которые раньше казались им непостижимыми загадками Вселенной, и наконец осознают, кто они на самом деле.
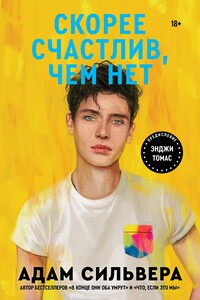
Вскоре после самоубийства отца шестнадцатилетний Аарон Сото безуспешно пытается вновь обрести счастье. Горе и шрам в виде смайлика на запястье не дают ему забыть о случившемся. Несмотря на поддержку девушки и матери, боль не отпускает. И только благодаря Томасу, новому другу, внутри у Аарона что-то меняется. Однако он быстро понимает, что испытывает к Томасу не просто дружеские чувства. Тогда Аарон решается на крайние меры: он обращается в институт Летео, который специализируется на новой революционной технологии подавления памяти.

Однажды ночью сотрудники Отдела Смерти звонят Матео Торресу и Руфусу Эметерио, чтобы сообщить им плохие новости: сегодня они умрут. Матео и Руфус не знакомы, но оба по разным причинам ищут себе друга, с которым проведут Последний день. К счастью, специально для этого есть приложение «Последний друг», которое помогает им встретиться и вместе прожить целую жизнь за один день. Вдохновляющая и душераздирающая, очаровательная и жуткая, эта книга напоминает о том, что нет жизни без смерти, любви без потери и что даже за один день можно изменить свой мир.
