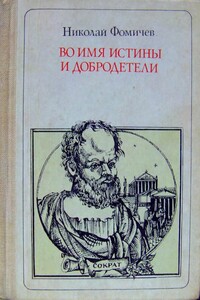Неожиданные люди - [41]
«И все-таки признайся, ты был удивлен кругом его интересов. Ведь частная жизнь Кремнева была для тебя все равно что книга за семью печатями…»
«На стройке вообще никто не знал о личной жизни Кремнева. Он жил обособленно…»
«И не имел друзей… так же, как и ты…»
«Ну… у меня хоть Авдеев был».
«Авдеев был твоим приятелем, не больше».
«И все же я был откровенен с ним, как с другом. А Кремнев ни с кем не откровенничал…»
«Ладно… Что же тебя удивило в Кремневе, если не его откровенность?»
«Выражение и тон, каким он разговаривал со мной… О проблемах космогонии и космологии, или как там еще называются эти науки, он говорил с такой же любовью, с какой старые бабушки говорят о своих внучатах… У него даже черты лица преобразились, стали мягкими… по-стариковски благодушными. А кстати, сколько ему было лет тогда?.. Не многим более пятидесяти… И голос сделался другим… каким-то задушевным, завораживающим, таким рассказывают сказки… Он искоса и добродушно на меня посматривал и говорил так искренне и доверительно (и бережным движением руки нет-нет да проводил рукой по голове девчурки, и помню: рука его все натыкалась на высокий узел шелкового банта и соскальзывала), что на какой-то момент я подумал, что этот и есть настоящий Кремнев, а тот, неприятный и жесткий Кремнев, которого никто не любит, а только боятся, — таким бывает по обязанности…»
«И ты вдруг, как какой-нибудь пацан, потянулся к нему душой… Так ведь было?..»
«Да… Я вдруг почувствовал, что в этом его состоянии… душевной размягченности, что ли… с ним можно совершенно откровенно поговорить и о делах… А я все время чувствовал между собой и ним какую-то преграду… взаимного отчуждения… И мне вдруг показалось, что этой преграды нет, она исчезла…»
«И ты заговорил с ним о делах, о нерешенных проблемах стройки…»
«Да, я заговорил и сразу же понял, что ошибся… Нет, он не изменился ни в лице, ни в голосе. Он только очень мягко, вежливо сказал: «Знаете что, давайте о делах не будем, а? Давайте отдохнем сегодня…» Но в этом, как будто даже просительном, тоне глухо, но отчетливо звучала непреклонность… и я осекся…»
«А он уже собрался уходить…»
«Он тут же поднялся, и, когда пожимал мне на прощанье руку, у него была улыбка человека, который чувствует свою вину, но извиняется не словами, а улыбкой… Так и он, улыбнулся, взял девочку за руку и неспешно подался к машине, которая его ожидала на углу стандартного трехэтажного дома с вывеской над подъездом: «Книги».
«И ты пошел домой…»
«Я шел домой и мучился вопросом: какой же он, Кремнев, на самом деле? Когда актерствует, а когда бывает настоящим, то есть самим собой?..»
«И к какому выводу пришел?»
«Что он един в трех лицах… а может быть, и в больших, но этих остальных мне не пришлось увидеть… Да, я так до конца и не понял этого человека… Но тогда главное значение имел для меня Кремнев — руководитель стройки…»
«Не для тебя, а для стройки, ее интересов…»
«Так было бы сказать вернее…»
«И этому, главному, Кремневу ты и решился сделать вызов…»
«Да, решился… после смерти Беспалова… когда чаша возмущения моя и многих других парткомовцев была переполнена…»
«Но сперва ты заручился поддержкой Журова».
«Я просто приехал к нему посоветоваться… С кем же мне было еще советоваться?»
«И ты рассказал ему о всех своих сомнениях».
«Я рассказал ему о главных… Самую большую опасность я и другие парткомовцы видели в том, что Кремнева уже давно настойчиво копируют руководители меньших рангов. Жесткий стиль стал стилем стройки… И этот стиль, как железной ширмой, загораживал прорехи в организации труда, которых становилось больше с каждым днем, и это особенно обеспокоило Журова…»
«И еще — твои сомнения в реальности сроков пуска домны».
«Да… Но здесь мы пришли к единому мнению: что бить отбой взятым обязательствам поздно и невозможно и остается только одно: драться за то, чтобы слово, которое стройка дала Москве, сдержать во что бы то ни стало…»
«В чем и была огромная ваша ошибка…»
«И за нее мы оба поплатились… Но это было позже, после футбольной трагедии…»
«Все же Журов согласился, что Кремнева надобно одернуть… Хотя и с этим вы тоже опоздали, друзья хорошие…»
«Он согласился, но сказал, что самую тяжелую, фактически единоличную, ответственность за стройку несет Кремнев, и было бы поэтому неправильно парткому противопоставлять себя начальнику строительства, — имейте это в виду…»
«И вы ему вкатили выговор без занесения…»
«Не в этом суть… Что ему выговор? Он знал, стоит ему только в срок сдать металлургам домну, и все его прегрешения спишут, а самого, быть может, и лаврами увенчают: с повышением в Москву возьмут (об этом поговаривали в кулуарах)… Так что выговор был для него все равно что укус комара… А вот что по-настоящему его задело, встревожило, а может быть, и испугало — так это выступления парткомовцев…»
«А ведь ты боялся этого парткома…»
«Я боялся, потому что не был уверен в поддержке большинства. Но меня поддержали все, за исключением зама главного инженера Попова, тоже москвича, до конца оставшегося «человеком Кремнева»… Естественно, Кремнев не ожидал такого оборота… И хотя речь шла о стиле руководства стройкой, ему тут все припомнили: разносы, окрики, угрозы… оскорбления Уварова, Беспалова… да и не только их… Но больше всех ему врезал Белецкий… Помню, он спросил Кремнева: «Почему к вам так редко записываются на прием? — вы когда-нибудь задавались вопросом?.. Да потому, что чувствуется: не любите вы людей!..» — «На стройку я приехал не людей любить, а дело делать, строить!» — угрюмо обронил Кремнев, и, кажется, это была его единственная оправдательная реплика. «А разве вы еще не поняли что в наше время успешно дело делать невозможно, не любя людей?» — опять спросил его Белецкий, но ответил ему я (среди всеобщего молчания): «Факты говорят сами за себя: что Герман Павлович этого не понял…»

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».