Недоподлинная жизнь Сергея Набокова - [118]
Поначалу Оскар относился к Гитлеру вполне благодушно; каждого, кто обещал положить конец подобию гражданской войны — состоянию, в котором Германия пребывала последнее десятилетие, — можно было только приветствовать, а кроме того, Оскар считал, что деятельность национал-социалистов, в особенности после того, как «национал» начало вытеснять у них «социалистов», пойдет во благо и бизнесу, и морали.
Герман же с самого начала точно предрек, что Гитлер приведет Германию к краху, и все же его отношение к правлению нацистов было довольно сложным. Произведенная Германией в марте 1938-го аннексия Австрии разгневала его, однако он понимал логику собирания утраченных земель — Рейнской области, Саара, Судетской области — под эгидой Великого Рейха. Войну, когда она началась, Герман не поддержал, но и поражения Германии не жаждал. Думаю, ему очень хотелось, чтобы у замка Вайсенштайн имелась шапка-невидимка, под которой он мог бы укрываться, пока все не успокоится.
Меня же Гитлер и его движение на очень недолгий срок очаровали. Да, он был одиозен, опасен, неуравновешен и страдал помешательством, однако в декоративной стороне национал-социализма присутствовало, во всяком случае поначалу, нечто чрезвычайно стильное и влекущее, — для того чтобы понять, о чем я говорю, довольно взглянуть на ошеломляющие черно-белые плакаты, которые Гитлер использовал во время выборов 1933 года. И должен признать, увы, что мне нравилась опора его партии на молодежь, нравились плакаты, изображавшие молодых мужчин со свежими лицами, облаченных в перетянутую ремнями форму, обнимавших друг друга за плечи в знак товарищеской преданности. Если они смотрели в будущее, то и я был не прочь взглянуть на него. Все это, разумеется, переменилось, и очень быстро. И то, что представлялось неторопливым спектаклем с приятными эротическими обертонами, стало вскоре полновесным кошмаром.
К осени 1938 года брат и его семейство добрались все-таки до Парижа и поселились в убогой квартирке на рю Буало. Приезжая в город, я непременно заглядывал к ним.
Володя, как и всегда, много работал — писал новый русский роман и еще один, английский, как он мне сказал. Тем временем Митючка, мальчик несомненно умный, обращался в маленький кошмар, а не чаявшие в нем души родители не предпринимали решительно ничего для обуздания его анархической натуры.
С Верой мне тоже было нелегко; боюсь, нам так и не удалось избавиться от первоначальных подозрений насчет друг дружки. Голова ее была забита предрассудками самыми заурядными. Она полагала, похоже, что я втайне желаю стать женщиной; что мир моей души мало чем отличается от мира задержавшейся в развитии гимназистки; что моя мать любила меня чрезмерно, а отец недостаточно. И самое, быть может, обидное — Вера считала, что всех мужчин моего разряда неудержимо тянет к маленьким мальчикам. Я не забыл (и определенно не ослышался), как она жарким шепотом отчитывала Володю, как-то под вечер попросившего меня провести час с Митючкой, — Вера куда-то ушла, а брату требовалось поработать: «О чем ты только думал? Его ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять наедине с нашим сыном!»
В те годы Володю все сильнее обуревало желание покинуть Париж. Помню один наш разговор весной 1939-го, в тот раз мой брат описал свое положение в словах самых недвусмысленных.
— Я — лучший писатель моего поколения, — сказал он мне, — однако у русского романа нет будущего. Он умирает голодной смертью, советский же роман и рождается мертвым. Я написал кое-что по-французски, однако все надежды возложил на английский язык. Это было трудно почти до невообразимого. Да и отказ от моего прекрасного русского…
Он сокрушенно покачал головой.
— Если бы я взялся писать что-нибудь, — сказал я в глупой попытке помочь ему, — то почти наверняка избрал бы английский. Но с другой стороны, я избавился от России быстрее, чем ты, и с большей легкостью. Возможно, нам, инвертам, требуется прежде всего приспособляемость, без нее мы не выжили бы. Я совершенно уверен в моей способности приспособиться к чему угодно.
Он рассмеялся.
— Какими только глупостями не забита твоя голова, верно? Как бы там ни было, тебя сильно позабавит сюжет моего последнего романа, написанного, как ты, наверное, уже догадался, на моем темном, спотыкливом английском. В нем рассказывается о двух братьях. Один из них писатель, другой нет. И тем не менее, вследствие всякого рода занятных обстоятельств, писателем становится и второй. Я назвал его «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Вот все, что я готов о нем рассказать. Рукописи я тебе не дам, и не проси. Посмотрим, найдутся ли желающие напечатать его.
Интересно, где он теперь, этот роман? Я его так и не видел. Может быть, в прекрасной, как сон, Америке издатель для него и отыскался.
— Следующий роман, — сказал он мне в том же разговоре, — я думаю написать о жизни странного двойного чудища, которое снится мне временами: о том, как оно убегает из дому, о его злоключениях в нашем мире, о несчастных любовях, о том, как трагическая смерть одного из близнецов освобождает другого от сиамских уз. У меня столько замыслов, которые я даже и на бумагу еще не перенес, а часы все тикают, драгоценное время уходит. Даже сейчас, разговаривая с тобой, я думаю: не следует ли мне сидеть вместо этого за письменным столом? В моей голове вызревает роман о безнадежной, беспомощной, запретной любви старика к юной девочке. И еще один, о далекой северной стране, напоминающей фантастическими красками и текстурой нашу мглистую родину. Я все стараюсь и стараюсь вытянуть оба из себя — медленно, терпеливо, как дрозд вытягивает из земли червяка. Не думаю, что ты знаешь, как мучительно это осмотрительное упорство. Большинству людей о нем, на их счастье, ничего не известно.

Автор, человек «неформальной» сексуальной ориентации, приводит в своей книге жизнеописания 100 выдающихся личностей, оказавших наибольшее влияние на ход мировой истории и развитие культуры, — мужчин и женщин, приверженных гомосексуальной любви. Сократ и Сафо, Уитмен и Чайковский, Элеонора Рузвельт и Мадонна — вот только некоторые имена представителей общности людей «ничем не хуже тебя».
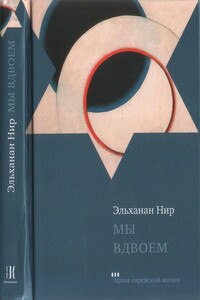
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
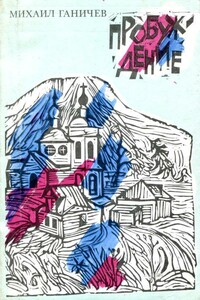
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.