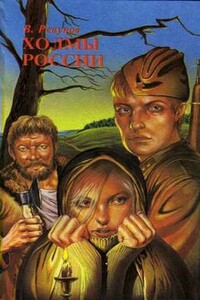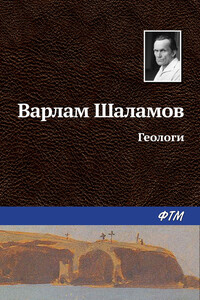— Чего же покупки свои забываешь? — сказал он и кинул на лавку сверток.
— Вот растрепа! Платье купила. Красивая в нем буду.
Кирилл, усмехнувшись, достал папироску. Размял ее в озябших пальцах.
— Спичку поднесла бы.
Нинка бросилась в сенцы. Кирилл огляделся. Ни разу здесь не был. Мазанка на две половины переборкой разгорожена. В передней — печь, шкаф с посудой. На окне кипа книг и чернильница с воткнутой ручкой.
«Небось и заржавела там», — подумал Кирилл.
В другой половине — через раскрытую дверь — видны два окна на задворок, на далекий закат, который красным светом призарил всю комнату, цветы на окне, кисейные занавески, кровать с жарко горевшими медными шарами.
— Скучаешь? — вернувшись, сказала Нинка и стала резать, раскладывать закуску.
Слюнки сглотнул Кирилл: целый день не ел. А тут и колбаса с чесноком, и баранинка, и огурцы, и бутылочка, обмерзшая инеем.
— Спички-то дашь?
Нинка положила на стол коробок.
— Что, ты, гляжу, все одна живешь?
— Эх, Кирилл, сказать чудно! За доброту свою и страдаю. Ходил со мной один, девкой еще была. Изныл весь, в любви клялся. Пожалела — далась в руки. За ту жалость он меня на всю деревню и ославил… Кому потом стала нужна? Так и облетели зазря годки мои молодые… В войну один офицер обнадежил — гвардии капитан. В госпитале лежал. Каждый вечер, как на крыльях, к нему летала. Хвать — жена приезжает. Не порвал с ней, как обещал. Уехал. С той поры, прямо скажу тебе, Кирилл, и живу как бог на душу положит.
— Одной плохо, — сказал Кирилл.
— А ты меня не жалей. Садись и гостюй, раз зашел.
Нинка налила в рюмки вина.
— Да нет, пить я не буду, — сказал Кирилл. — За рулем.
Он постоял раздумывая. В мазанке стемнело.
— Пусти-ка лампу зажгу, — сказала Нинка.
А утром, проснувшись дома в постели, Кирилл застонал, вспомнив все, что случилось в Щелганове.
— Что с тобой? — спросила жена.
— Так… Голову ломит.
— Не надо пить.
Тошно стало Кириллу от яркого света в окнах, и он отвернулся.
— На́, рассольцу попей да вставай. Восемь скоро.
Кирилл взял из рук жены ковш, глянул как-то жалко.
— Не праздники, чтоб подгуливать. Стыдно!..
Вечером он опять пошел к Нинке. Но дома ее не застал. Не застал и на другой день.
«Когда не надо, как сорока, всюду крутится, а то и с огнем не найдешь», — досадовал Кирилл.
Вернулся домой мрачный. Ужинать не стал — сразу лег.
Санька, сидя за столом над книгой, следил исподтишка за отцом и матерью. Отец лежал, отвернувшись к стене. Мать растапливала печку — вздыхала. Тоска какая-то завелась в доме.
На четвертый день, вечером, Кирилл, наконец, застал Нинку.
Она мыла полы и, распрямившись, удивилась, когда он вошел.
— Ба, незваный пожаловал!
— Я на минутку.
Она поставила ему табуретку возле порога.
Кирилл сел, шапку снял.
— Ты про тот вечер никому не сболтнула?
— Зачем же?
— И молчи. Прошу тебя.
— Забоялся?
— Не за себя прошу. За семью. Как косой, подрежется за мой грех.
Нинка, окунув тряпку в ведро, отжала ее и, нагнувшись, зашлепала по полу.
— А ты ходил тут без меня — не подумал, что увидеть могут?..
5
Вера, объехав разбросанные по степи кошары, вернулась к себе в Береговское раньше обычного. Поставила на общий двор коня. Сена натрусила ему и пошла домой. Вчера так и не прилегла. За столом перед лампой просидела. Очнулась, когда окошки засинели. За день совсем умаялась. Едва брела сейчас. Тяжелой и шуба казалась, и валенки, и ноги в снегу увязали… Сил нет, жарко!
Из кузницы вышел дед Данила в фартуке, с клещами, которыми держал раскаленную добела железину. Поглядел вслед соседке. Ничего не сказал.
Вот и дом. Над окном сосулька висит: от февральского солнышка натекла.
Вера раскрыла калитку и остановилась, оглядывая двор. Кто-то тут похозяйничал без нее? Дорожка была расчищена от снега, присыпана золой. Лед у колодца обрублен — не поскользнешься с ведрами. А возле крыльца лежала груда напиленных дров. И вдруг обрадовала догадка, что муж пришел.
Вошла в дом. Наветренные щеки сразу запылали от жара. Блеснули капли на полушалке. Она крепко затопотала у порога обмерзшими валенками, сбивая снег, и весело крикнула:
— Санек, а веник где?
Санька мигом подал матери веник.
— Мамань, видела, двор как убран?
— Кто же это?
Санька выпрямился — руки по швам. Нос в саже. Вера тяжело села на лавку. Веник выпал из рук. Вот кто хозяйничал во дворе! Было и отрадно, что работящий растет у нее сын, и больно за свою обманутую радость.
— Не плачь, мамань!
— Да я так, сынок. Соринка вот в глаз попала. — И она улыбнулась, но улыбка ее, как вспыхнувшая соломинка, тотчас и угасла.
Санька ушел в сенцы и долго сидел там на поленьях, по-мужски широко расставив ноги в больших подшитых валенках. Потом вернулся в мазанку. Надел полушубок, ушанку из овчины.
— Ты куда же, сынок? — спросила мать, разжигая лучину для самовара.
— Приду сейчас.
А собрался Санька в Щелганово, к Нинке — отца звать домой.
6
Проселок вился среди белых ровных полей. Вдалеке чернел лес. В спину дул ветер, мел по наскольженным колеям снег. Впереди было мглисто. День угасал, и надо было спешить.
Возле околка — стайка берез и осин, подступавших к дороге, Санька остановился. Там, на заячьей тропке, несколько дней назад поставил отец проволочную петлю, в которую, бывало, заскакивали зайцы. Как не взглянуть? И Санька свернул туда. Снег был глубоким, так что, пока пропахал по нему ногами, устал. Куропаток вспугнул. Рядом, на ровном, и сели, — а не видать.