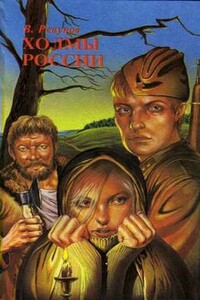Помчался конь, свет от огня замелькал по деревьям. Внизу под взгорком — деревня, и вижу я, как избы там озарило.
Долго двигался среди полей этот огненный клуб. Скроется и снова вспыхнет в темноте.
Пошел я в поле — туда, где бой был. Спешил… Будто виделось мне, что Дашу с сынком снегом там заметает и они еще живы, под деревом схоронились.
Лезу по снегу, по пояс проваливаюсь. Ртом дышу — жжет в груди, больно, а сил-то нет. Упаду — тепло, сладко лежать, и сразу сном меня обрывает, и зов слышу: «Федя… Федя!..» Это она, Даша, она будто бы звала меня, а я поднимался и сам звал ее. Тьма вокруг, ветер жалит… Куда идти? Вовсе не туда иду.
Потом перестал понимать, что снилось мне, что было явью… Будто наткнулся на что-то, бил кулаками и куда-то провалился в тепло. Какой-то желтый огонь передо мной был, и глаза на меня глядели, как с иконы. «Федя… Федя!..» — позвал меня Дашин голос. Хотел встать, но не смог, и понял, что замерзаю.
На самом же деле лежал я в избе, на стену наткнулся, мне открыли. Упал я через порог на пол — мертвяком, как хозяйка мне рассказала, когда пришел я в себя.
Говорили после, что к Аникеевой Глафире ночью ввалился человек, весь седой, рваный, со страшным лицом и упал на пол. А на рассвете, не сказавшись, куда-то ушел.
Это я был. В Берестовке очутился, не за рекой, а в пяти верстах — в другой вовсе стороне. Вот куда завело. Ушел я на рассвете.
Взял автомат, лежал он на столе рядом с картошкой и хлебом. Хозяйку поблагодарил. Она и валенки мои в печи высушила, и полушубок залатала. Правда, тесноват он мне стал, и на локтях, когда надел, опять распоролся. Шапчонку какую-то дала. Сказала в дорогу:
«С богом, сынок… Не пропади».
На дворе рассинело, было тепло, тихо. Счастье мое, что на эту избу набрел. Пройди мимо — в поле бы так и закоченел. А хуже этого — к врагам мог войти.
Вспомнил вчерашнее, когда Даша с сынком ушла, заныла опять моя рана. Вчера чего-то ждал еще, ночью даже казалось: близко их спасение. Теперь уж и не надеялся: чувствовал, что один встречаю я это утро.
Наткнулся на труп на дороге, прошел еще чуть — увидел торчащую из снега руку. Это были каратели — те, которым не удалось бежать от нашей засады.
Пришел я в свою деревню, думал наших встретить. Но пусто было: всех жителей немцы угнали.
В моей избе дверь распахнута, сени замело — не пролезешь. И возле печи снег. Табуретка валяется у стены. Кровать смята: каратели на ней сидели. Люлька Сашукова чуть кружится от сквозняка.
Не застал я никого на стоянке отряда под Будой. Кинулся по следу. Куда-нибудь бы вывел меня, но темнело уже. А ночью повалил снег.
Отмахал я верст тридцать в сторону Ельни и затосковал… Как же это я Дашу с сынком не нашел и не схоронил по-людски?
Едва я дотянул до какой-то деревни, в сарай на сено забрался. Очень себя слабо почувствовал. В горле саднило, голова горела. Чуть на ногах стоял, кружилось все, и мутило. В полночь слышу, дверь сарая скрипнула. Схватился за автомат, дорого думал отдать свою жизнь. На счастье, оказались свои, партизаны, правда, из другого отряда. В разведке были, ночлег искали.
Оказался я опять в отряде. У своих, а настоящей радости нет. Гложет душу тоска.
Сообщили мне: погибла Даша с сыночком. Вызывает меня командир.
«Ну что, — говорит, — Федор, ныть будем или врага бить?»
«Врага бить», — отвечаю.
Сколько потом было походов, засад — всех не перечтешь! Рвали мосты, эшелоны под откос пускали. Я больше по разведке, врага выслеживал. Себя не жалел, ну и фашистам доставалось; по совести скажу, спуску не давал. Ожесточилось у меня сердце.
Косорезов отбросил окурок и взял другую папироску.
— К концу запас, — кивнул он на пачку и продолжал: — Два года, считай, так-то бились. Настало время — наши пришли. Солдат я родных увидел. В погонах. Мы, конечно, всем отрядом в армию. И мне погоны выдали. Старшего лейтенанта присвоили. Разведротой поставили командовать. Ударили мы. Не то что в сорок первом. Дошел я до самого Берлина. Капитаном стал. Расписался на рейхстаге и в июне сорок шестого в деревню возвратился.
Приехал я на свою станцию днем. Тепло, синева над полями. Жаворонки заливаются — дрожит где-то высоко звук.
Иду по дороге, захмелел от этого раздолья. То медом пахнет с лугов, то лесной гарью. Васильки в зеленой ржи светятся, и что-то звенит и звенит в ней.
Прошагал я скорым все пятнадцать верст. А перед самой деревней ноги как онемели. Куда спешу? Кто меня ждет? Резануло затупелое горе. Сел я на пень за березками. Гомон и звон от деревни. Голосенки ребячьи различаю, и кажется мне, что сынка своего слышу.
Долго я так просидел, надеждой себя тешил. На дороге телега застучала… Едет кто-то. Гляжу, женщина. Не наша, незнакомая. И так тоскливо мне стало. Побрел я за телегой. Вот и улица наша, и соседние хаты, а моего дома нету. Мелькают под крапивой белые вьюнки. По бугру бурьян, рыжий, колючий, от ветра словно бы дышит. Боюсь идти дальше, горя своего боюсь. К реке свернул, вижу, мальчонка стоит, рыбу удит. Сел я сзади него.
«Чей ты?» — спрашиваю.
«Косорезов», — отвечает.
Подскочил я к нему.
«Сынок, — говорю, — Сашенька!»
Упал я в траву как подкошенный. И тискаю его, и целую, а все в глазах мутно, и мокро на щеках. Всю войну горе свое держал, а тут от радости не стерпел.