Навеки вместе - [44]
Приезд пана Тышкевича в Охов не предвещал ничего хорошего. Силан поглядывал из-за куста орешника, как прошел пан к хате старосты. Возле хаты, под березой, поставили столик, застеленный белой скатеркой, и скамейку. Тышкевич опустился на скамейку. Силан увидал двух похолков в белых кафтанах и сразу защемило сердце. Предчувствие не обмануло. Староста велел мужикам немедля собираться.
— Все? — спросил он старосту.
— Все, ваша мость.
Ждут мужики, что скажет пан. А тот чешет пальцами затылок и смотрит на белые облака. Мужики видят быстрые глаза, острый нос, торчащий шилом над черной щеткой усов. Вздрогнули усы.
— Кто? — пан Тышкевич сузил глаза и посмотрел на эконома.
— Степка Бурак.
— Степка!.. — крикнул староста.
Степка Бурак, сутулый длиннорукий мужик, вздрогнул и опустился на колени.
— Шестьдесят грошей за куницу, — прочитал эконом.
— Почему не отдает? — спросил Тышкевич у старосты.
— Отдам, ясновельможный, — божился Степка. — Свезу в Пинеск овес и коноплю, и отдам…
— Не хочет куничными отдавать, пойдет в тягловые! — прошипел пан Тышкевич. — Пять дней в неделю… Походки! Десять плетей ему, чтоб помнил про долг.
Похолки схватили Степку, бросили на траву и задрали рубаху. Засвистела плеть и голос эконома считал:
— Раз… два… три… четыре…
Не успел Степка подняться с травы и завязать на штанах веревочку, как голос старосты снова оповестил:
— Силан Сиротка!
Походки подмяли Силана. Кто-то сел ему на ноги, кто-то тяжело придавил голову к земле. Упругая плеть обожгла спину, и Силан сжал зубы… Все девять мужиков были старательно высечены в тот же день. А через две недели сонную тишь Охова нарушил людской говор, скрип повозок и храп коней. Грозно поблескивали пики и широкие лезвия алебард. Страх и смятение навевали крылья гусар и тяжелые черные кулеврины на неуклюжих деревянных лафетах. В хате старосты остановились ясновельможные паны — стражник Мирский и пинский войт Лука Ельский. Оховские мужики знали, что войско идет к Пинску, в котором засели черкасы вместе с горожанами. И теперь рядили, что будет с повстанцами?
К вечеру за Силаном пришел староста и повел в хату. По дороге поучал:
— Переступишь порог — падай в ноги. Внимай, о чем тебе говорить будет ясновельможный пан.
— Смилуйся, — просил Силан. — Зачем я надобен ясновельможному?
— Знать не знаю.
Пока шли, все передумал Силан. Может, земли куничные продал пан? А может, просил рейтар высечь его? Скорее всего, что сечь будут. За что — Силан догадаться еще не мог.
Переступив порог, он упал на колени, не рассмотрев еще, кто есть в избе.
— Вставай, — повелел голос.
Силан приподнял голову. В переднем углу увидел трех сидящих. Первый, круглолицый, в камзоле, повторял:
— Вставай. Звать тебя?
— Силаном, ваша мость…
— Поближе иди.
Силан подошел на шаг ближе и, кинув робкий взгляд, рассмотрел тех двоих: здоровущего, рыжеусого, с колкими, как шилье, глазами, и седого, в темном сюртуке с широким, расшитым серебром поясом. Силан сообразил, что все трое — войсковые люди.
— Как мне ведомо, — начал второй, — ты задолжал пану Тышкевичу, податей не платишь. Не плетей заслужил ты, а на кол тебя посадить надобно. Но господин твой ясновельможный великодушен к тебе и терпелив…
— Пусть хранит его бог! — ответил Силан.
— Тебе ведомо, что схизматы, сговорившись, предали Пинеск и отдали его в руки врагов твоих?
— Говорят, ваша мость, что город обложили…
— Привел в Пинеск черкасов вор и разбойник Небаба. Работные люди и чернь раскрыли ему ворота, за что будут наказаны богом… Хочу я, чтоб ты пошел в Пинеск тайно и поелико возможным будет образумил чернь и посадский люд словом господним, дабы не слушали предателей схизматов, не верили им, оружия в руки не брали и никаких почестей черкасам не оказывали…
Силан слушал, о чем говорил пан. А тот хотел немного. Если б мог он, Силан, порешить схизмата Небабу — был бы королевской милости удостоен. Но это так, между прочим. Главная его забота — увещевать люд. Пан достал грош и положил его в жесткую, широкую ладонь Силана.
Силан вышел во двор. В голове кружило, все перемешалось и, как ни старался Силан припомнить все по порядку, о чем говорил пан, — не мог.
Вечером в хату Силана пришел оховский мужик Лавра.
— Разом идем, — прошептал он. — Только боязно мне.
— Чего боязно, — успокаивал Силан. — Ходить будем, глаголети… Пан обещал налоги поубавить…
— Обещал… — .засомневался Лавра. — Да поглядим. Как бы не заплатил, когда восток с западом сойдутся…
Утром пану Ельскому принес донесение лазутчик, посланный к Пинску. Вести он доставил дивные: Северские и Лещинские ворота раскрыты. Из ворот выходят мужики и бабы в лес за хворостом. В городе тишина, казаков за стенами не слышно.
— А что на улицах деется? — хмурясь, допытывался войт.
— В город не заходил, не велено, — признался лазутчик.
— Жаль, — прикусил губу пан Ельский. — Значит, не видно казаков?
— Языка брать надо, ваша мость, — разгорячился Жабицкий.
— Не надобен, — пан Ельский отрицательно покачал головой. Решил идти к Пинску, до которого было десять верст.
Когда подошли к городу, войт приказал держать войско в лесу, костров не разводить, лошадей отвести подальше. Вместе с капралом Жабицким выехали на опушку и остановились, разглядывая город. Скупое осеннее солнце мягко вырисовывало на бледном небе белые громады костелов, монастыря и коллегиума. Кое-где над домами устало вились жидкие дымки. Северские ворота были раскрыты. Ни часовых, ни черни. Вскоре вышел за ворота мужик с веревкой. Подошел к опушке леса, собрал хворост и, взвалив на плечи, пошел в город. Затрепетало сердце Луки Ельского: сами ушли черкасы из Пинска! Половину дня простояли возле высоких смолистых сосен, поглядывая на ворота. Думал войт. Наконец решился:
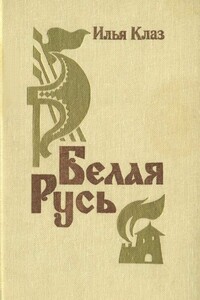
Роман И. Клаза «Белая Русь» посвящен одной из ярких страниц в истории освободительной войны народных масс Белоруссии в XVII веке. В центре произведения — восстание в Пинске в 1648 году, где горожане и крестьяне совместно с казаками, которых прислал на помощь Богдан Хмельницкий, ведут смертельную борьбу с войсками гетмана Радзивилла.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
