Наташа и менестрель - [2]
Получив инвалидность, он стал жить в доме матери. Из дома выходил редко, а когда бродил по селу, никого не узнавал и ни с кем не здоровался. Но иногда, видимо в минуты светлых проблесков ума, Водолаз останавливал вдруг на улице кого–то из односельчан и начинал говорить о погоде, видах на урожай в полях и огородах, о борьбе со снегом на дорогах района и о том, устоит ли Куба против Америки. Минуты просветления сознания у Водолаза были недолгими, и он прекращал общение с народом так же резко, как и начинал. К причудам этим бывшего кузнеца в селе постепенно привыкли. Агрессии «больной на голову» (это еще одно прозвище, которое дали сельчане Наташиному родителю) не проявлял, а иногда высказывал очень даже умные суждения. Многие его охотно слушали, некоторые даже с интересом и вниманием, и искренне жалели, что речь Водолаза была недолгой. Раза два–три в год бывшего кузнеца и неудавшегося сплавщика возили на обследование в районную или краевую больницу. Иногда оставляли на месяц–другой в лечебнице, но всегда возвращали на малую родину. Несколько раз в числе сопровождающих бывшего мужа в столицу края была Наташина мать. Водолаз ее даже стал выделять среди других, но женой не признавал. На собственных детей он по–прежнему не обращал никакого внимания.
Оставшись без мужа, Антонина Кузьминична одну корову продала. И хоть было ей, работающей на ферме, тяжело одной с тремя чадами, никаких попыток привести в дом нового кормильца она не делала. А когда в совхозе предложили отдать дочек в школу–интернат, она долго отказывалась. И лишь когда девочки подросли и стали рассуждать как взрослые (Наташа пошла в пятый класс, а Люба в третий), мать, посоветовавшись с ними, решила перевести детей на учебу в райцентр.
В интернате у девочек, во многом схожих характером, стали проявляться видимые различия. Худенькая, ростом выше некоторых мальчишек Наташа была малообщительна, часто стеснялась даже спросить что–то лишний раз, уроки делала всегда сама, никому не надоедая. Ей поручали выполнять какую–нибудь общественную работу, от которой другие отбрехивались. Она не отказывалась. Никогда не отказывалась от общественных дел и Люба. У младшей сестры неожиданно проявился организаторский талант, ее выбрали сначала звеньевой в своем классе, потом членом школьной дружины, а когда училась в восьмом, ей, едва приняв в комсомол, доверили место комсорга школы. Уже в те годы она заметно расцвела и похорошела, и в компании школьного комсомольского секретаря можно было видеть молодых учителей–мужчин и инструкторов из райкома. Любе прочили большое будущее и университет. Но она, неожиданно для всех, сразу после школьных экзаменов вышла замуж за вернувшегося только что из армии совхозного паренька, водителя директорской «Волги», и пошла работать к матери на ферму. Но разбуженную в ней в интернате общественницу было уже не остановить: через полгода Люба выбилась в заведующие фермой, через год родила сына, но дома не усидела, вышла на работу. Должность заведующей совмещала с работой в профкоме, а еще через год поступила на заочное отделение сельхозинститута и (в двадцать лет!) была избрана депутатом районного совета.
Жизнь же старшей сестры не была такой бурной. После восьми классов Наташа поступила учиться в сельскохозяйственный техникум. Техникум был специфический. Находился он не в краевом центре, как большинство подобных ему учебных заведений, а в небольшом городке, и учили там не на агрономов, ветеринаров или животноводов, а выпускали специалистов по переработке зерна. Там, в этом городке, в техникуме, вернее в общежитии техникума, и произошла у Наташи первая ее любовь. Произошла — не больше и не меньше. Такой же худой и высокий студент Витя не любил физкультуру, как и Наташа, и однажды во время урока физвоспитания Наташа с Витей оказались не в спортивном зале, а в скверике возле общежития. Если говорить откровенно, то этот хиляк Витя не был героем Наташиного сердца. Но он был первым, кто обратил на нее внимание и оказался настойчив в стремлении к своей цели.
Очутившись рядом на скамеечке, молодые люди разговорились. Вначале их объединила общая нелюбовь к занятиям физической культурой, а потом… Потом выяснилось, что Витина семья сродни семье Наташи. Разница в том, что Витина мать–одиночка воспитывает двух старших сыновей и маленькую дочь, а Витя в семье старший ребенок, но не главный: вся инициатива в доме принадлежит его брату–вундеркинду, который хоть и помладше Витька на год и учится только в десятом классе, но уже мнит себя чуть ли не академиком, а главное, командует всеми и всем. Это по его совету мать выпросила направление в совхозе и Витю отправили на учебу в техникум. Отправили как в ссылку, против его воли.
— А я зубным врачом хотел стать, — сказал Витя Наташе, едва сдерживая слезу.
— А я — воспитателем в детском саду, — призналась ему Наташа, ведь и она только по настоянию младшей сестры поступила в техникум.
Наташе стало жалко Витю, Витя пожалел Наташу. После откровенных признаний на скамейке общежитского сквера они подружились. Витя стал даже приходить к Наташе (студенческое общежитие состояло из двух раздельных корпусов, для юношей и для девушек), несколько раз приглашал ее в кино и танцевальный клуб. И как–то однажды, ближе к ноябрьскому празднику, он пришел в ее комнату с бутылкой вина, сказав, что у него день рождения и что он прошел мимо вахтерши незамеченным.
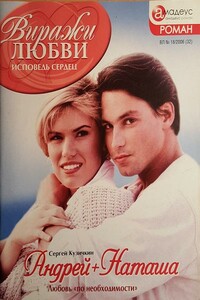
Если бы знала известная в районном центре сваха, что обаятельный молодой музыкант, которого она познакомила со своей соседкой, скрывается от правоохранительных органов и забрался в их глухомань только для того, чтобы «замести следы»! Да она бы никогда не привела этого Андрея к Наташе! Только теперь уже поздно: любовь «по необходимости» взяла да и переросла в серьезное чувство…
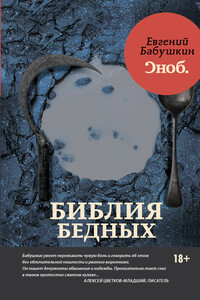
О чем шушукаются беженцы? Как в Сочи варят суп из воробья? Какое мороженое едят миллиардеры? Как это началось и когда закончится? В «Библии бедных» литература точна, как журналистика, а журналистика красива, как литература. «Новый завет» – репортажи из самых опасных и необычных мест. «Ветхий завет» – поэтичные рассказы про зубодробительную повседневность. «Апокрифы» – наша история, вывернутая наизнанку.Евгений Бабушкин – лауреат премии «Дебют» и премии Горчева, самый многообещающий рассказчик своего поколения – написал первую книгу.

Последние два романа Александра Лыскова – «Красный закат в конце июня» (2014 г.) и «Медленный фокстрот в сельском клубе» (2016 г.) – составили своеобразную дилогию. «Старое вино «Легенды Архары» завершает цикл.Вот что говорит автор о своей новой книге: «После долгого отсутствия приезжаешь в родной город и видишь – знакомым в нём осталось лишь название, как на пустой конфетной обёртке…Архангельск…Я жил в нём, когда говорилось кратко: Архара…Тот город навсегда ушёл в историю. И чем дальше погружался он в пучину лет, тем ярче становились мои воспоминания о нём…Бойкая Архара живёт в моём сердце.

Есть на свете такая Страна Хламов, или же, как ее чаще называют сами хламы – Хламия. Точнее, это даже никакая не страна, а всего лишь небольшое местечко, где теснятся одноэтажные деревянные и каменные домишки, окруженные со всех сторон Высоким квадратным забором. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, будто он оказался на дне глубокого сумрачного колодца, выбраться из которого невозможно, – настолько высок этот забор. Сами же хламы, родившиеся и выросшие здесь, к подобным сравнениям, разумеется, не прибегают…
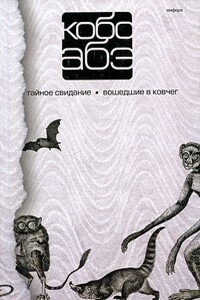
В третьем томе четырехтомного собрания сочинений японского писателя Кобо Абэ представлены глубоко психологичный роман о трагедии человека в мире зла «Тайное свидание» (1977) и роман «Вошедшие в ковчег» (1984), в котором писатель в гротескной форме повествует о судьбах человечества, стоящего на пороге ядерной или экологической катастрофы.
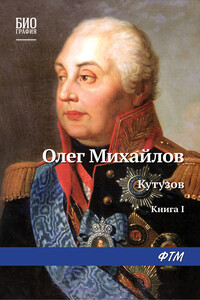
Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
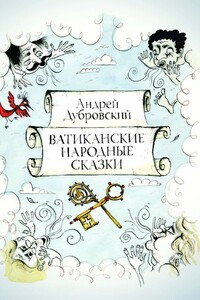
Книга «Ватиканские народные сказки» является попыткой продолжения литературной традиции Эдварда Лира, Льюиса Кэрролла, Даниила Хармса. Сказки – всецело плод фантазии автора.Шутка – это тот основной инструмент, с помощью которого автор обрабатывает свой материал. Действие происходит в условном «хронотопе» сказки, или, иначе говоря, нигде и никогда. Обширная Ватиканская держава призрачна: у неё есть центр (Ватикан) и сплошная периферия, будь то глухой лес, бескрайние прерии, неприступные горы – не важно, – где и разворачивается сюжет очередной сказки, куда отправляются совершать свои подвиги ватиканские герои, и откуда приходят герои антиватиканские.