Наташа и Марсель - [16]
«Мой несчастный брат…» — привычно подумала Генриетта и вдруг задохнулась от жалости к себе, поняв, что несчастна она, а не Марсель, потому что любить так, как любит он, — счастье, которого у нее не было.
«А дети? Внуки?» — защищалась от своих мыслей Генриетта и тут же честно отвечала себе, что дети — другая любовь и другое счастье, это совсем иное, чем то, что она видела в Марселе. И такого счастья она не познала за всю свою жизнь, и потому несчастна своею женской долей, и прежде всего пожалеть надо ее, Генриетту, а не Марселя.
Бывает ли какое-то наитие, предчувствие, когда человек вдруг угадывает то невероятное, что может случиться в недалеком будущем?
«А если Наташа окажется жива, если она спаслась каким-то чудом и ее найдут?» — подумала Генриетта и сразу испугалась оттого, что не смогла даже представить, как изменился бы тогда весь мир для ее брата.
Ведь столько лет осталось позади, и воскресшая Наташа оказалась бы сегодня совсем другой, а любовь у Марселя сохранилась к прежней Наташе, и неизвестно, как восприняла она бы такую же, как Марсель сейчас, седую, а не молодую и прекрасную Наташу. Но разве седая женщина не может, не должна быть прекрасной для того, кто любит ее столько лет?»
И снова Генриетта пожалела себя, вспомнив, что никого в юности полюбить так и не успела, а выйдя замуж по расчету, вела потом расчетливую, размеренную жизнь. И то, что неясными греховными желаниями рвало ее душу, что заставляло замирать сердце, она исповедовала кюре и обращала потом в заботы и беспокойство о детях, в светлую и преданную материнскую любовь. Но разве только этим может быть счастлив человек? И разве справедливо смиреньем, которое внушили тебе муж и кюре, убивать в себе святое женское право самой определять своего избранника, боготворить его, желанного, и безоглядно, как любится всем сердцем, — любить?
В том хрупком молчании, что заполняло стремительно мчавшуюся «Волгу» генерального директора, Генриетта глотала рвущиеся изнутри рыдания и, чтобы успокоиться, переключила внимание на Командира, пытаясь догадаться, почему так отрешенно замолчал и он.
Лицо Демина становилось все более замкнутым, над глазницами нависли густые брови и жестко пролегли морщины в углах волевого рта. В который уже раз он казнил себя вопросами: можно ли было тогда, в июне сорок четвертого, пробиться, хотя бы выскользнуть из смертельной блокадной петли в болотах у озера Палик? Мог ли он, Командир, спасти свой отрядили те потери, те сотни смертей были неизбежными, и уйти от них, избежать их было за пределами его сил и его командирских возможностей? А спасение половины отряда явилось стечением обстоятельств, итогом стойкости, героизма или, как у Марселя, еще и чудом?
Бессчетно задавал себе эти вопросы Командир, пытал свою кровоточащую память, сопоставлял собранные уже после войны факты, воспоминания, документы, и былые события осмысливались масштабным анализом результатов и становились на фоне всего этого понятнее, отчетливее, виднее. Значит он, Командир, тогда не ошибся в главном и вместе с отрядом сделал все и даже больше возможного?
Все или, может, не все?.. А павшие? Насколько неизбежной для каждого была его трагическая доля? Свой долг они выполнили до конца и Командира ни в чем не винили. Но разве может он забыть каждого из них?
После той блокады в болотах Палика еще продолжалась война. Он рвался на фронт — его заставили трудом добивать в тылу проклятую войну.
Сейчас они едут в Смолевичи, к тяжело больному комиссару Зубко. «Помирать собирайся, а жито сей». Кто на деревне стократ не слыхал эти мудрые слова? Но Зубко говорил их весной сорок четвертого, перед самой блокадой, когда смерть со своей косой вольготно разгулялась в лесном партизанском краю и умирать доводилось не только в ночной перестрелке либо в штыковой — погибали сеятели на поле, обронив в пахоту сбереженное по фунтам и горстям золотое крестьянское зерно.
— Я волонтер, но не хлебопашец, — тяжело выговаривая последнее слово, обижался Марсель. — Мои обязанности сражаться и проливать кровь, а не получать эти кровавые мозоли от непривычного труда!
— Да работанькi няма ахвотанькi, — усмехнулся острый на язык пожилой партизан Вигура и назидательно поднял указательный палец, буравя Марселя колючим взглядом маленьких и не по возрасту ярких, василькового цвета, глаз. — А наiсмачнейшы хлеб ад сваëй працы! {9}
— Мы сеем хлеб, а все ли будем живы к дожинкам? — засомневался лихой разведчик и подрывник Саша Муравицкий.
— Не все, — отрицательно качнул головой Зубко. — Ох, ребята, далеко не все, вон как фашист лютует: даже авиацией хлебные наши поля бомбит, не то, что пехотой — танками сев загубить хочет. Потому что нет у него, фашиста, будущего, а у нас оно есть. Ну а как не доживем с вами до уборочной, то наши люди посеянный нами хлеб соберут, на освобожденной земле соберут!
И сеяли в ту весну, как воевали, а вернее, и сеять приходилось и воевать. 8 мая секретарь подпольного Смолевичского райкома партии Григорий Демьянович Довгаленок докладывал Минскому обкому:
«Весенний сев по Смолевичскому району окончен. В период особой активности вражеской авиации сев проводился в ночное время. Засеяно 1500 гектаров, населению бригадой «Смерть фашизму» была оказана помощь лошадьми и семенами. Сев прошел организованно. Работы прикрывались бригадой, отбито 9 попыток немцев проникнуть в нашу зону и помешать севу».

Герой повести в 1941 году служил на советско-германской границе. В момент нападения немецких орд он стоял на посту, а через два часа был тяжело ранен. Пётр Андриянович чудом выжил, героически сражался с фашистами и был участником Парада Победы. Предназначена для широкого круга читателей.

Простыми, искренними словами автор рассказывает о начале службы в армии и событиях вооруженного конфликта 1999 года в Дагестане и Второй Чеченской войны, увиденные глазами молодого офицера-танкиста. Честно, без камуфляжа и упрощений он описывает будни боевой подготовки, марши, быт во временных районах базирования и жестокую правду войны. Содержит нецензурную брань.

Мой отец Сержпинский Николай Сергеевич – участник Великой Отечественной войны, и эта повесть написана по его воспоминаниям. Сам отец не собирался писать мемуары, ему тяжело было вспоминать пережитое. Когда я просил его рассказать о тех событиях, он не всегда соглашался, перед тем как начать свой рассказ, долго курил, лицо у него становилось серьёзным, а в глазах появлялась боль. Чтобы сохранить эту солдатскую историю для потомков, я решил написать всё, что мне известно, в виде повести от первого лица. Это полная версия книги.
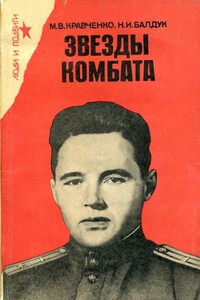
Книга журналиста М. В. Кравченко и бывшего армейского политработника Н. И. Балдука посвящена дважды Герою Советского Союза Семену Васильевичу Хохрякову — командиру танкового батальона. Возглавляемые им воины в составе 3-й гвардейской танковой армии освобождали Украину, Польшу от немецких захватчиков, шли на штурм Берлина.
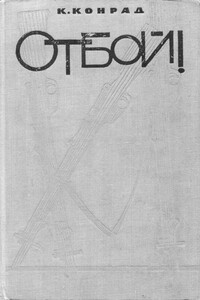
Антивоенный роман современного чешского писателя Карела Конрада «Отбой!» (1934) о судьбах молодежи, попавшей со школьной скамьи на фронты первой мировой войны.

Авторы повествуют о школе мужества, которую прошел в период второй мировой войны 11-й авиационный истребительный полк Войска Польского, скомплектованный в СССР при активной помощи советских летчиков и инженеров. Красно-белые шашечки — опознавательный знак на плоскостях самолетов польских ВВС. Книга посвящена боевым будням полка в трудное для Советского Союза и Польши время — в период тяжелой борьбы с гитлеровской Германией. Авторы рассказывают, как рождалось и крепло братство по оружию между СССР и Польшей, о той громадной помощи, которую оказал Советский Союз Польше в строительстве ее вооруженных сил.