Наше житье - [2]
Что здешний заграничный мелкий чиновник? Пьет пиво и если уж с очень широкими запросами, так собирает старые почтовые марки. Тускло, нудно, без размаха, без завитка.
А у нас были с завитком.
Вспоминаются особенно часто, как контраст здешним, двое — учитель Пенкин и акцизный Понимаев. Каждый в своем роде. Но некий общий тон был все-таки в их моральном облике.
Учитель Пенькин, когда я его встречала, готовился к путешествию в Париж. На что был нужен Пенкину Париж — до сих пор понять не могу, хотя думаю об этом с тех пор четырнадцать лет.
Готовился он к этому путешествию следующим образом: он зубрил французский словарь. Прямо все слова под ряд. Начиная с «А».
A, Ah, Abbaye, Abbe, Abesse, Abees и т. д.
— Ну-ка, Василий Петрович, — говорили ему, — много ли назубрили?
— Уж до буквы «п» дошел, — отвечал Пенкин.
«Пегас, Пего, пегуз, Пень»…
— Пень? Да это как будто уж по-русски.
— Нет, то другое «пень». Французское.
— А что же это значит-то?
— А значение слова я потом буду заучивать, когда докончу весь словарь. Теперь уж немного осталось. Уж до «п» дошел. А там накоплю денег, да и марш прямо в Париж.
Произносил Пенкин французские слова так смачно по-русски, что самое обыкновенное слово мгновенно теряло свое французское значение, и приобретало новое игриво-загадочное.
В Париж Пенкин не попал, так как не смог накопить достаточно денег. Вместо Парижа решил выписать золотые часы в рассрочку. Выписал. Прислали часы в замшевом чехле, сверх него кожанный футляр, а все вместе в картонной коробке. Пенкин так все вместе с чехлом, с футляром и с коробкой и носил в кармане. Замша, значит, чтоб золото не стиралось, футляр, чтоб замша не терлась, а коробка, чтоб футляр не поцарапался.
Бывало спросят у него — который час. Василий Петрович посмотрит на солнце, покрутит носом:
— Да пожалуй уж четвертый.
— А часы-то ваши где же?
— Часы-то есть, да знаете ли смотреть-то на них хлопотно. Конечно можно, но уверяю вас — хлопотно.
Развертывал он их только утром, когда заводил. На ночь прятал в комод под ключ, чтоб воры не украли.
Вот так и жил Пенкин со словарем и с часами.
Почтенно жил. Где вы заграницей такую диковину найдете?
Андрей Иваныч Понимаев был несколько в другом роде. Пенкин был черствый, замкнутый, неразговорчивый. «Пегусь, Пень», — а больше ничего и не добьешься.
Понимаев был человек чрезвычайно общительный. Душа нараспашку.
Заграницу он за неимением средств не собирался, но и, не побывав там ни разу, знал Париж и Берлин, как свои пять пальцев. Знал все способы сообщения — все метро, омнибусы, трамваи, знал все улицы, все лучшие магазины. Он изучил план этих городов по книжке и карте так великолепно, что мог любого парижанина или берлинца провести с любого места в любое кратчайшим путем.
— Скажите-ка, Андрей Иваныч, — вот я в Берлин еду — где там магазин «Кадеве»?
— Кадеве-с? Это на углу Пассаур и Таунцинер улиц.
— А как туда ехать?
— Да вам откуда?
— Я буду жить на Прагер штрассе.
— Ну, тогда очень просто! — дойдите до Нюренбергер-площади — от вас два шага, садитесь в Унтергрунд и через две минуты вы на Виттенберг-площади. Прямо супротив-с.
А парижанин для проверки спросит.
— А ну-ка, Андрей Иваныч, а если мне, скажем, нужно от церкви Сен Жермэн дэ Прэ попасть скажем в магазин Прентант. А? Как мне ехать? На каком метро?
— И ни на какое метро вам не надо. Садитесь прямо тут же у церкви на автобус А. М. и через двадцать минут будете на месте.
— А где магазин Лафайета?
— Да два шага от оперы.
— Ну, а как от площади Конкорд проехать в ресторан Покарда?
— Покарда-с? Который на бульваре или другой-с? Потому что существует еще в переулке. Ехать, знаете ли, придется с пересадкой-с.
Да так вам все и изложит.
Таскал он нас так и по Парижу, и по Бурлину, куда угодно по всем направлениям, и в театры, и в магазины, и в музеи.
Покончив с Парижем принялся за Нью-Йорк. Говорил, что работа большая. Не знаю, довел ли он ее до конца.
Покажите мне такое чудище где-нибудь заграницей. Ведь его бы там наверное под музыку за деньги показывали. А у нас он был просто акцизный Андрей Иваныч.
Диковинные люди водились у нас на Руси.
Вспомнишь, так памяти своей не веришь:
— Неужто, мол, и правда были такие?
У-у…
В квартире очень холодно.
Илья Иваныч Овечкин говорит, что это из-за угля холодно. Что дрова несут жар в комнату и печку калят, а немецкий уголь наоборот все тепло в себя вбирает и в трубу выпускает.
Фамилия Ильи Ивановича, собственно говоря, Овечкин, но он велит писать ее через ять, чтобы показать, что он происходит не от овцы, а от вечности. По-немецки пишет себя von Owetschkin, хотя на особый почет не претендует.
На квартирный холод Илья Иванович очень обижается и говорит, что немецкие дома такие холодные, что когда идешь по улице, так чувствуешь, как от домов дует.
— А если, — говорит, — два больших дома приходятся друг против друга, так между ними сквозняк.
Квартира у Ильи Иваныча состоит ровно из одной комнаты, и та вся утыкана рогами. Хозяин квартиры был очевидно в свое время лихим охотником и настрелял множество ланей и серн, и с каждой убитой головы спилил верхушку черепа с рогами и наколотил на стену. Шестьдесят восемь пар рогов. Анна Петровна, жена Ильи Иваныча, первое время волновалась:
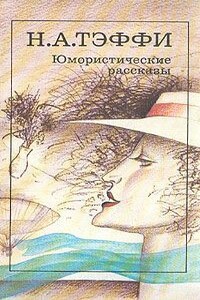
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

Среди мистификаций, созданных русской литературой XX века, «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (1910) по сей день занимает уникальное и никем не оспариваемое место: перед нами не просто исполинский капустник длиной во всю человеческую историю, а еще и почти единственный у нас образец черного юмора — особенно черного, если вспомнить, какое у этой «Истории» (и просто истории) в XX веке было продолжение. Книга, созданная великими сатириками своего времени — Тэффи, Аверченко, Дымовым и О. Л. д'Ором, — не переиздавалась три четверти века, а теперь изучается в начальной школе на уроках внеклассного чтения.
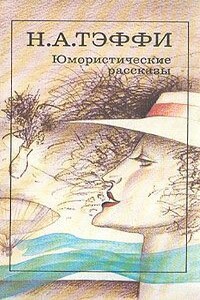
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".
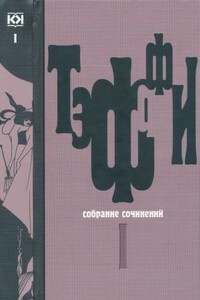
Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872–1952) – блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стада народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».В первый том собрания сочинений вошли две книги «Юмористических рассказов», а также сборник «И стало так…».http://ruslit.traumlibrary.net.

Надежда Тэффи, настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая (1872–1952), писала юмористические рассказы не только для взрослых, но и для детей. В эту книгу вошли такие произведения, как «Приготовишка», «Кишмиш», сказка «Чёртик в баночке» и другие. Дети в этих рассказах много размышляют над странностями взрослых людей и мечтают о чём-то небывалом. Тэффи по-доброму пишет про наивные детские поступки, отчего её рассказы излучают нежность и любовь к ребёнку. Иллюстрации современных художников С. Бордюга и Н. Трепенок. Для младшего школьного возраста.

«Тэффи-юмористка – культурный, умный, хороший писатель. Серьезная Тэффи – неповторимое явление русской литературы, подлинное чудо, которому через сто лет будут удивляться». Слова Георгия Иванова оказались пророческими. Каждое новое издание Надежды Александровны Тэффи – любимейшей писательницы дореволюционного и эмигрантского читателя – обречено на успех. Поэтическое наследие Тэффи сегодня практически неизвестно, хотя в свое время стихи ее были очень популярны. На слова многих из них написаны романсы, прославившиеся в исполнении Александра Вертинского.В настоящий сборник впервые вошли все три прижизненных поэтических сборника писательницы, а также рассказы, пьеса и воспоминания.http://ruslit.traumlibrary.net.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)