На золотом крыльце сидели - [64]
Это было непонятно, и он, видимо, этому не поверил, истолковав по-своему: зять возражает против его, Бориса Ермолаевича, присутствия в доме.
Вернувшись с хлебом, я нашла его на кухне: сидел замерев и шею вытянув.
И ужинали мы вдвоем, без Мишки. Это было отцу и вовсе непонятно, а я ничего не объясняла, ела молчком. Не было у меня сил на разговоры.
Разве могла я предвидеть, чем все это для него кончится?
Знал бы, где упасть, — соломки б подстелил.
И вот я лежу ночью в постели и делаю магические опыты.
Я вспоминаю, сильно и мучительно, всю любовь, чтобы симпатически вернуть ее назад, приворожить, удержать на привязи воспоминаний — чтоб не уходила. Чтоб знала: здесь ее место.
Магия тем сильнее, чем сильнее я в с п о м н ю.
Я стараюсь вспомнить с и л ь н о.
Я смотрю на его лицо в зернистом сумраке ночи.
Мне жаль, что человек не может вместить все присущие ему свойства одновременно, а только по очереди, расставаясь с одними ради следующих, пробегая, стадия за стадией, круг своей жизни. Я всматриваюсь в его привычное лицо, пытаюсь разглядеть в нем того восьмиклассника Мишку Дорохова, моего яростного врага, клокочущего от жара внутри, но не могу, не могу разглядеть за позднейшими наслоениями. Тот Мишка не накладывается на этого, он живет отдельно, и мне надо закрыть глаза, чтобы вспомнить его.
Вот, вижу. У воспоминания, как и у сна, скупое освещение: теплится свечечка близ самой главной точки, а все остальное в сумраке, и детали неразличимы, как в темной русской избе. Не помню уже, как выглядел наш класс, сколько было окон, и на какой парте я сидела, и где стоял стол учителя — сумерки, не разобрать. Но идет урок пения. А по пению у нас был неприкаянный один мужичонка; немного играл на баяне — его и позвали в школу. Он стеснялся, что учит пению, не зная отродясь нотной грамоты. Он боялся, он старался, как мог.
«И где б ни ходил он, повсюду носил он солдатский простой котелок», — угрюмо пел хором наш восьмой класс, сидя за тесными партами.
— Нет, ну что мы такое поем! — заныла я в паузе.
— А что петь? — робко спросил баянист.
— Ну, есть же на свете какая-то настоящая музыка! — страдальчески воскликнула я.
Баянист пожал плечами и виновато понурился.
— Оперу ей спойте! — подсказал Мишка Дорохов, и весь класс оглянулся на меня с любопытством и осуждением. Среди поля слабых глаз — как протуберанец, горел ненавидящий взгляд Дорохова.
Я зажмуриваюсь: мне сейчас, при воспоминании, страшно и стыдно.
И после того — как ни проходит мимо этот Мишка Дорохов, поднимет брови и, как бы вдруг заметив меня: «О, мадам! Как жизнь в аристократических кругах?» И шествует дальше, не обратив внимания на свой вопрос. А я остаюсь, вся в пламени позора.
Мишка был прав, прав: да, была во мне эта «аристократическая» претензия. Но что же мне было делать, снедала меня тоска по д р у г о й жизни! Ведь невозможно было допустить, что до конца дней — эти куры, утки, свиньи, и таскать воду из колодца на пойло, и выходить в буран зимой, цеплять навильник сена, прищуривая глаза от сенной трухи и колючего снега, что струйками просверливал щели холодного пригона, и печальная морда коровы с влажными глазами — и ее, корову-то, дуру, жалко на этом холоде и на ветру! А разминать руками закисшие осклизлые картофелины в ведре с теплым отрубяным пойлом — да неужели на всю жизнь! — ведь по радио, по книжкам, по кино — была где-то другая, совсем другая жизнь! «Огни повсюду зажгла суббота... снежинки хороводом, и тысячи мелодий...» От этих «снежинок» я прямо дрожала, представляя себе: теплый снег в круге фонаря, и люди, смеясь, группами торопятся на свой праздник. И праздник у них совсем не такой, как здесь. Здесь что — одна простота! Побелят к пасхе дом с ультрамарином, повесят туго-глаженые занавески на окна, напекут стряпни, половички постелят свежие, и на них можно валяться в блаженной, забирающей звуки чистоте, и пахнет ванилином, сито с пуховыми пышками и таз хрустящих стружней стоят на покрывале кровати — вкусно, тихо, покойно — хорошо! Хорошо, да все не то!
Ведь есть где-то недостижимый, влекущий мир, отголосок которого — по радио — нечаянным ветром доносит в эту дальнюю деревенскую избу. Спит весь дом — и родители, и Витька, — а я лежу без сна, закрыв глаза, в кромешной тишине зимней пустынной ночи, как на дремучем океанском дне, и репродуктор над моей головой — щелочка, перископ, через который проникают сюда звуки иного, невидимого мира. По звукам я пробую догадаться, что же там, наверху, за глухой непроницаемой толщей океана, что за мир такой.
Там музыка без конца и без края, и несчастный Г. С. Желтков из предсмертного письма молитвенным речитативом: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь?», а утром идти в деревянную школу, а там мои одноклассники — они как рыбы живут под этой толщей и не заглядываются на след мелькнувшего света. «Физика» Перышкина, «Геометрия» Киселева, и я подскажу теорему, и подсказку примет тот, кто стоит у доски, и даже Мишка Дорохов примет, хотя тут же и усмехнется.
И вдруг — как знак, как предвестие новой, другой жизни — вышло постановление: ограничить домашние хозяйства. Я тайно ликовала: не будет больше во дворе этого удручающего визга голодных свиней. А кроме меня, всем горе: жить привыкли сыто. Но закон есть закон, и каждый, вздохнув, поискал себе утешения. Мать уныло сказала: слава богу, хоть не столько теперь чугунов ворочать с картошкой, да золовки меньше побираться станут.
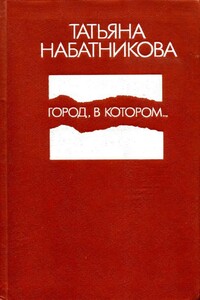
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.

Вы можете представить себе женщину, которая празднует день рождения любимой кошки? Скорее всего ей около сорока лет, в жизни она неплохо устроена, даже успешна. Как правило, разведена — следовательно, абсолютно свободна в своих поступках и решениях. Подруги ей в чем-то завидуют, но при случае могут и посочувствовать, и позлословить — ведь безусловные преимущества свободы в любой момент грозят перейти в свою противоположность… Где проходит эта «граница» и в чем состоит тайна гармонии жизни — вот проблемы, которые Татьяна Набатникова поднимает в своих рассказах с деликатностью психолога и дотошностью инженера, исследующего тонкий механизм.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Имя Льва Георгиевича Капланова неотделимо от дела охраны природы и изучения животного мира. Этот скромный человек и замечательный ученый, почти всю свою сознательную жизнь проведший в тайге, оставил заметный след в истории зоологии прежде всего как исследователь Дальнего Востока. О том особом интересе к тигру, который владел Л. Г. Каплановым, хорошо рассказано в настоящей повести.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».
