На золотом крыльце сидели - [5]
Любовь — такое слово было: позорная дразнилка вроде моего несчастного имени Дуня — оно не годилось. Со мной случилось что-то другое, внеязычное, и я чувствовала с испугом, молча, догадываясь: это моя избранность, моя исключительная судьба, не видимая никому. И я хранила ее в тайне, чтобы никто не позавидовал мне.
Пресветлая осень поспела, осыпалась, устелила школьный двор желтыми листьями. На переменах грызли початки вареной кукурузы, мальчишки гонялись за девчонками по шуршащему двору, чтобы дергать за косы, и за мной гонялись с особенным пристрастием, привлеченные, как пчелы неуловимым запахом, тем счастьем, которое монопольно копилось во мне и зрело для будущей жизни. Это я так догадывалась. Потом оказалось, что просто у меня были длинные косы, и я была новенькая.
Толя Вителин не бегал на переменках, не гонялся за девчонками, и у меня всегда оставалась власть, если захочется, бросить всех, вернуться в класс и, сколько влезет, держать его — всего, с головы до ног; как кошка мышь, — в охвате зрения. Это было то изобилие, которое только и могло пребывать в царственном центре мира, помещенном во мне. Но я боялась: вдруг он оглянется, и я поскользнусь в его глаза.
Наш саманный сельсоветовский дом оказался холодным, зимой углы промерзли, отсырели и потемнели от пятен. Он стоял на краю села, дальше шла снежная степь — вечерами после заката на сугробах лежали фиолетовые тени, и в самой близи от нашего огорода начиналось смертное единовластье холода. Голое, без лучей, зимнее солнце целые дни студило землю.
Мать, закутанная в шаль, шаркала валенками по кухне и подбрасывала в печь угля. Печь была сложена плохо — все тепло уносилось в трубу.
Бумажные кружева на полках почернели от копоти и оборвались.
— Ева, я лягу. Пойди к отцу на работу, скажи, я болею и чтоб сегодня пришел пораньше, печку топить.
Я шла. Отец досадливо морщился:
— Ну, опять... Нет-нет, сегодня никак не получится пораньше, — начинал он прикидывать в уме, увиливая взглядом. — У меня отчет. Как-нибудь там сами... Неужели так сильно разболелась? Ах ты... Ну, а ты-то что же, разве не справишься?
Я-то справлюсь. Да в печке ли дело?
В те вечера, когда отец был дома, мы ужинали в молчании, невнятно говорило или пело радио из комнаты, после ужина отец брал книгу и ложился на неразобранную кровать читать. Но минут через десять он со вздохом откладывал книжку — в ней был отряд батьки Михая и лесные партизанские подвиги — и маялся в ожидании ночи. Иногда он напивался, чтобы проскочить эту мрачную вечернюю маету, и тогда ему было лучше, а нам хуже, чем обычно. Мне представлялось: мы вслепую ползаем на четвереньках под низкими темными сводами, и из подземелья этого никому нет выхода, кроме меня. Мне нужно только потерпеть и подождать: я вырасту, и для меня наступит настоящая жизнь.
Мне совестно было перед пропащими родителями безраздельно пользоваться своим будущим и бессмертной жизнью — и я все норовила уйти из дому и переночевать у тети Веры. Там потрясенная Надя переписывала в общую тетрадь стихи — их она мне не показывала, зато давала смотреть альбом с артистами, и в нем была одна открытка из «Колдуньи»: летящая по чащобе босая Марина Влади — со скорбным лицом.
Весной родители затеяли строить свой дом.
— Может, все-таки, не будем строить, а? Может, нам дадут другую квартиру, потеплее? Или, в крайнем случае, печку здесь перекласть, — говорил отец, — а то возни столько...
— Знаю я, куда ты клонишь, — решительно возражала мать. — Ты к Волошиной своей удрапаешь, а мы оставайся в этой саманухе, да?
— Нужна мне сто лет твоя Волошина, — отвечал отец мелким, семенящим голосом. — Ну, как хочешь. Строить так строить.
Что это стало с его голосом в последнее время: источился, стал хитренький, — наверное, от вранья.
За Волошину мне было обидно. За ее чистенькую комнатку и за кулек земляники, и те завитки — за то, что отец их забыл, и значит, погибель на земле и забвение. Я решила помнить ее за отца — чтобы ничто не пропадало даром на свете.
Родители строили дом, лето было жаркое. Каждый день я тащилась по пыльному переулку за хлебом и назад посреди стоячего июля, и под забором размеренно покачивались лопухи. Я останавливалась и подолгу смотрела на их стариковский покой, над ними ветки деревьев волновались, и от случайного ветра листья со вздохом вздрагивали, блестя и просеивая на землю свет. Хлеб в сетке царапал мне пыльные щиколотки, я взваливала сетку за спину и все стояла и смотрела на эти успокоенные лопухи. Хотелось запропаститься в рождающую глубину земли, в самую ее тьму и не ходить больше снаружи по ее поверхности.
И не иметь отдельной души и ничего не сознавать, а только качаться с травой от ветра на виду у одного и того же забора.
Как мне повезло в то лето, не описать. Меня взяли на один день на сенокос: возить копны. Это значит — ехать верхом на смирном коне, впряженном в волокушу: на волокуше едет копна сена, я везу ее туда, где скирдуют стог. И по пути к стогу, и по пути от стога мне навстречу едет со своей волокушей Толя. И всякий раз я ненасытно вглядываюсь: вот он показывается из-за холма, покачиваясь на своем коне, вот он приближается, вот мы поравнялись, потом я украдкой оглядываюсь, сколько могу. Он не оглядывается.
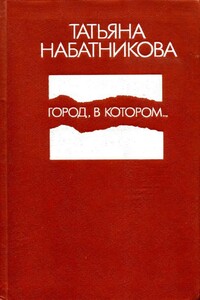
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.

Вы можете представить себе женщину, которая празднует день рождения любимой кошки? Скорее всего ей около сорока лет, в жизни она неплохо устроена, даже успешна. Как правило, разведена — следовательно, абсолютно свободна в своих поступках и решениях. Подруги ей в чем-то завидуют, но при случае могут и посочувствовать, и позлословить — ведь безусловные преимущества свободы в любой момент грозят перейти в свою противоположность… Где проходит эта «граница» и в чем состоит тайна гармонии жизни — вот проблемы, которые Татьяна Набатникова поднимает в своих рассказах с деликатностью психолога и дотошностью инженера, исследующего тонкий механизм.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.
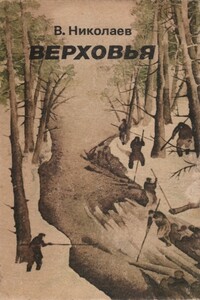
В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.
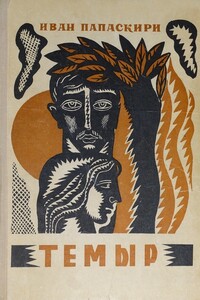
Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

Источник: Сборник повестей и рассказов “Какая ты, Армения?”. Москва, "Известия", 1989. Перевод АЛЛЫ ТЕР-АКОПЯН.

В своих повестях «Крыло тишины» и «Доверчивая земля» известный белорусский писатель Янка Сипаков рассказывает о тружениках деревни, о тех значительных переменах, которые произошли за последние годы на белорусской земле, показывает, как выросло благосостояние людей, как обогатился их духовный мир.