На золотом крыльце сидели - [2]
И я, как Василь, насилу переносила это пение, с мокрым дрожащим горлом, и все силилась додуматься до чего-то, нечаянно промелькнувшего, как будто разглядеть что-то в сумерках или во сне — и никак.
Дальше в песне мать не дозволяла Василю жениться на вдове.
Отец мой вдруг встал и вышел из комнаты за дверь. Мать с ревнивой ненавистью проводила его взглядом. А у меня все-таки просочились наружу слезы. Есть что-то одно в любви, в музыке и в книгах — совершенно одинаковое, — я узнаю его по тому, что плачу дремучим, смертной тоски плачем, которому нет причины, — как собаки воют на луну.
Василь все равно решил жениться на вдове, не послушался матери, я вышла на крыльцо, чтобы сказать об этом отцу, но его нигде не было.
На большом тети Верином огороде мы садили картошку, и Надя всех поторапливала, потому что в полдень на школьном дворе начинался праздник окончания учебного года. Праздник этот назывался фестиваль.
Я бросала картошку в лунки, которые копали мать и тетя Вера, идя друг за другом. Они тихо разговаривали — и я старалась не слышать слов матери.
— Он с ней работал вместе. Каждый день только и слышишь: Волошина сказала то, Волошина сделала это, а вот Волошина... и все такое. С языка у него не сходила. А потом вдруг замолчал про Волошину, — вполголоса мрачно рассказывала мать, косясь на соседнюю полосу, где садили картошку отец, дядя Вася и Надя. — И два года эта петля затягивается, затягивается, я говорю: все, или убирайся к чертовой матери, или давай уедем отсюда подальше, если хочешь с нами жить. Вот и приехали — куда мне еще деваться, как не к тебе.
Волошину я знала. Это она придумала мне такое имя — Ева. Года два назад, я еще не ходила в школу. Мать тогда лежала в больнице, а отец собрал у нас дома гостей. Много, все новые и красивые, играл патефон, и музыка тревожила меня предчувствием чего-то невыносимо печального и счастливого — и тоже хотелось плакать.
Гости танцевали, и отец танцевал с Волошиной. У нее под собранным на затылке волнистым валом волос лежали на шее два пушистых завитка, и я гордилась, что именно отцу досталось с ней танцевать.
Потом Волошина сидела на диване, притянув меня к себе и, улыбаясь через мою голову отцу с непонятной, тревожной для меня загадкой, говорила: «Пусть она будет не Дуся, а Ева. А? Смотри, как красиво: Ева, Евдокия».
Отец чуть коснулся пальцами ее завитков и сказал: «Так и будет». А потом тише добавил: «Может, это единственное, что я могу обещать тебе».
И он с тех пор стал звать меня Евой, и этому все подчинились и привыкли.
Волошина жила от нас через два дома, и в ее одинокой комнате, куда она однажды зазвала меня, купив по дороге кулек лесной земляники (помню обман: земляничный запах обещал такое, чего не мог сдержать вкус ягоды), — в ее одинокой комнате было усмиряюще чисто и тихо, а на комоде зачем-то сидела кукла, хотя никаких детей у Волошиной не было, и я, после земляники осмелев, тайно ждала, что вдруг эту куклу Волошина тоже подарит мне, но она не подарила, а я, захваченная напрасной надеждой, пропустила вниманием конфеты, которые она дала к чаю, так что даже не могла повторить потом в памяти их вкуса, что было очень обидно. Конфеты назывались «Озеро Рица».
— Я уж к ней и ходила. Разговаривала... — продолжала мать. — У, н-наглая такая, что... так бы и вцепиться ей в глаза...
Тетя Вера опасливо оглядывалась, чтобы Надя не слушала такие разговоры.
Я про себя выбрала Волошину: те два пушистых завитка на шее, когда она танцевала с отцом, подтверждали ее правоту.
— Ну все, я ухожу, — громко объявила Надя.
Тут через перелаз огорода заглянула моя подружка Люба и позвала:
— Ева-а! Ева-а! — она выговаривала это имя с аппетитом и удивлением, как ела бы невиданный фрукт из невиданной страны.
На Любе было неношеное, жестко топорщившееся платье из красного в белый цветочек ситца и штапельная косынка на голове.
— Иди, — отпустила меня тетя Вера.
— Ну сейчас, прям! — возразила мать. — А садить картошку кто будет? Да и нечего ей там делать, она еще никого не знает.
— Иди, иди, Евдокия, отправляйся! — строго скомандовала тетя Вера, тоном обозначая свое главенство над матерью как над своей младшей сестрой, и я сорвалась, побежала, наскоро умылась в тазу во дворе, так и не справившись с земляной каймой под ногтями из страха опоздать на фестиваль; ох уж эта мать, но ведь ее жалко, а отец — но что поделаешь, у Волошиной на шее эти завитушки, а тетя Вера добрая, конечно: ей с дядей Васей хорошо, но как же все-таки быть с матерью? И опять мне потом попало от нее: я поменялась с Любой косынками — мою крепдешиновую голубую на ее штапельную, и мать велела забрать назад, но тетя Вера заступилась: «А брось ты, ну какая тебе разница, нехай девчонки дружат».
На фестиваль мы с Любой не опоздали.
В школьном дворе было шумное гулянье, и тут меня выловила из толпы Надя и потащила в свой кружок.
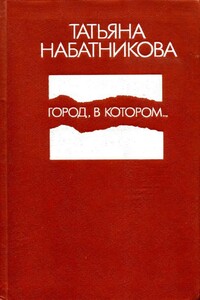
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.

Вы можете представить себе женщину, которая празднует день рождения любимой кошки? Скорее всего ей около сорока лет, в жизни она неплохо устроена, даже успешна. Как правило, разведена — следовательно, абсолютно свободна в своих поступках и решениях. Подруги ей в чем-то завидуют, но при случае могут и посочувствовать, и позлословить — ведь безусловные преимущества свободы в любой момент грозят перейти в свою противоположность… Где проходит эта «граница» и в чем состоит тайна гармонии жизни — вот проблемы, которые Татьяна Набатникова поднимает в своих рассказах с деликатностью психолога и дотошностью инженера, исследующего тонкий механизм.
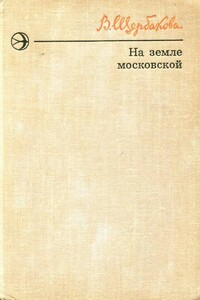
Роман московской писательницы Веры Щербаковой состоит из двух частей. Первая его половина посвящена суровому военному времени. В центре повествования — трудная повседневная жизнь советских людей в тылу, все отдавших для фронта, терпевших нужду и лишения, но с необыкновенной ясностью веривших в Победу. Прослеживая судьбы своих героев, рабочих одного из крупных заводов столицы, автор пытается ответить на вопрос, что позволило им стать такими несгибаемыми в годы суровых испытаний. Во второй части романа герои его предстают перед нами интеллектуально выросшими, отчетливо понимающими, как надо беречь мир, завоеванный в годы войны.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.
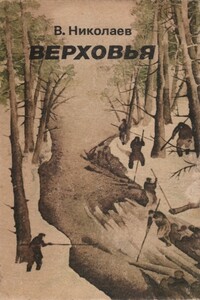
В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.
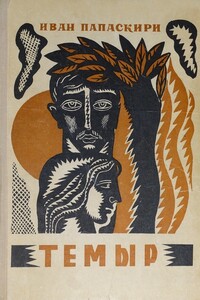
Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.