На золотом крыльце сидели - [13]
— А вы не на машине? — спрашивает Рудакова Зина.
Ах да, у него же еще и машина — это для Зины немалый козырь. Если уж тужиться изображать раскрепощение под заграничные романы, то, по меньшей мере, должна быть машина.
Выедут по тряской дороге за город, откинут сиденья, и Зиночка будет закрывать глаза, чтоб не видно было, какую скуку она превозмогает, притворяясь страстной.
— «Милый, сегодня мы поужинаем дома: я купила холодную курицу», — говорю я в кавычках и усмехаюсь, вертя в пальцах свою чашку.
Мужчины недоуменно переглядываются, но Зина меня, кажется, поняла.
— Что такое? — спрашивает Рудаков. У него глаза навыкате и белесые курчавые волосы. Бездарный мужик.
— Холодная курица — это любимая Зинина закуска. Продается в кафе напротив.
— Напротив чего? — спрашивает сбитый с толку Рудаков.
— Вообще напротив, — объясняю я.
Зина язвительно говорит:
— Владимир Васильевич, не удивляйтесь Евиным странностям. Ей бы жилось легче, если бы их было хоть немного поменьше, — угрожающий короткий взгляд в мою сторону. — Она была влюблена уже в четвертом классе. А? Вам не приходилось?
— Мне? Зиночка, всему свое время. В четвертом классе я учился. И в десятом тоже. Потом в институте. Потом кандидатская. И вот, наконец, мне сорок лет — и я свободен для любви! — Рудаков ждет, что его шутку оценят. Зина хохочет и глядит на него с жалким в ее возрасте лукавством.
— Ева, — тихо обратился ко мне Глухов. — Я никогда не думал, что... — сейчас скажет какую-нибудь глупость, жду я. И пока он медлит, пробую угадать, какую именно. «Я никогда не думал, что буду заниматься катодами, а теперь, представьте, мне это даже нравится». Или еще какую-нибудь недомысль. Надеюсь, у него хватит вкуса не сказать мне: я никогда не думал, что мне может понравиться женщина, с которой я вместе работаю. Скорее всего, он сам не знает, что сказать после «я никогда не думал, что». Я не помогаю ему. Я без внимания верчу головой. Такая фамилия, Глухов, боже мой, ужас. Все-таки, человек похож на свою фамилию, тысячу раз замечала. Под бездарными фамилиями живут бездарные люди. Фамилия Глухов — это, наверное, происходит от какого-нибудь затюканного тугодума, который вечно все переспрашивает. «Ты что делаешь, рыбу ловишь?» — «Нет, рыбу ловлю». — «А, а я думал, рыбу ловишь». Вот ведь не повезет же мне сидеть за одним столом с каким-нибудь там Гранде. Декан у нас на факультете был Гранде. Боже мой, какой был великолепный, породистый мужчина — душа заходилась, когда он властно шел по коридору, и ветер шумел от его походки. Но моя природная фамилия — Паринова, и уже одним этим мне на роду написано, что не сидеть мне никогда за одним столом с Гранде, а сидеть с Глуховым и Рудаковым. И никакая я не Ева, а Дуся, так-то будет вернее.
— Я никогда не думал, что сам себя могу поставить в такое жалкое положение и еще так долго его терпеть неизвестно зачем. Вы смотрите на меня, как на идиота, и я подтверждаю это, оставаясь здесь сидеть. Пожалуй, я пойду, а? — наконец говорит Глухов.
— ...старик травник, он чай не пьет. Он считает, что пить и есть надо только то, что растет там, где ты живешь. Ничего привозного, ни винограда, ни чаю... — ведет свой разговор Рудаков, а Зина слушает его наготове с занесенным над чашкой чайником.
— Да бросьте вы, сидите, — говорю я Глухову. — Сейчас пойдем танцевать. А то как бы нас в институте не заперли. Придется тут жить два выходных до понедельника.
Рудаков услышал:
— О, я согласен!
— Пойдемте танцевать! — заключает Зина.
Это она боится, как бы ее не заподозрили в желании остаться с Рудаковым в институте запертой на выходные дни.
Мы с облегчением, что нашлось дело, идем вниз. Я думаю о том, что зря не родила еще одного ребенка. Не торчала бы сейчас на дискотеке. Жила бы в забытьи забот короткими перебежками — от одного дела до другого, — а они расставлены близко, — и не было бы у меня для обозрения такой точки, с которой я могла бы увидеть начало жизни и ее конец и ужаснуться.
Мы спустились вниз, но я не танцевала, нет, я дождалась, пока Демис Руссос сплачет свою жалобную песню, и незаметно ушла оттуда.
Или нет, не так...
Зачем я вру? Не знаю...
Мне бы все это забыть, чтобы заново надеяться дальше.
Враг
Сам же звоню — и сам бросаю трубку.
Через полчаса набираю снова. Алексей вздыхает, выражая последнюю степень долготерпения, но упорствует на своем.
— Я на твоем месте бросил бы всю эту... И пошел слесарем на завод. По крайней мере, хоть польза.
Это друг!.. Спасибо, говорю, ты всегда найдешь, чем утешить. А я, говорит, тебе не гейша — утешать.
— Зря я только с тобой время трачу. Найти бы где умного человека посоветоваться.
— Сам мучайся.
— Я его доклад уже наизусть выучил. Из ненависти. Ночами не сплю.
— Никому не сознавайся, — говорит, — про бессонницу. Это стыдно. Это значит, человек не наработал на отдых. Представь себе пахаря — чтоб он ночью не мог заснуть? Это ты не заслужил сна.
Катается по полу пух тополиный перекати-полем. Смирные тополя во дворе уже месяц с самым кротким видом душат своим пухом целый свет.
Маюсь дальше.
Открыл книгу — философ считает, что сознательная нравственность разрушает себя, как не может сохраниться в целости препарируемое для изучения животное.
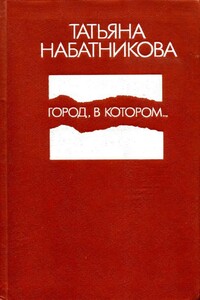
В новую книгу молодой уральской писательницы вошли роман «Каждый охотник», повесть «Инкогнито» и рассказы — произведения, в которых автор в яркой художественной форме стремится осмыслить самые различные стороны непростого сегодняшнего бытия.

Вы можете представить себе женщину, которая празднует день рождения любимой кошки? Скорее всего ей около сорока лет, в жизни она неплохо устроена, даже успешна. Как правило, разведена — следовательно, абсолютно свободна в своих поступках и решениях. Подруги ей в чем-то завидуют, но при случае могут и посочувствовать, и позлословить — ведь безусловные преимущества свободы в любой момент грозят перейти в свою противоположность… Где проходит эта «граница» и в чем состоит тайна гармонии жизни — вот проблемы, которые Татьяна Набатникова поднимает в своих рассказах с деликатностью психолога и дотошностью инженера, исследующего тонкий механизм.
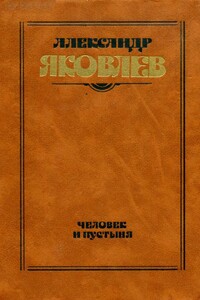
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
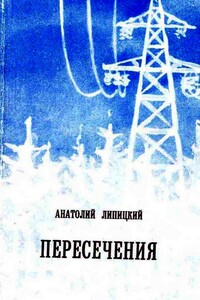
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.
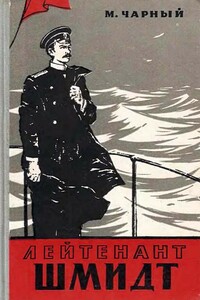
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
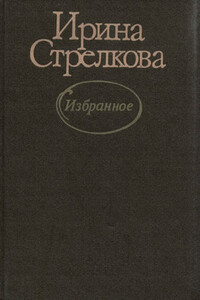
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.