На всемирном поприще. Петербург — Париж — Милан - [15]
Он еще не любил Лизаньку, но она уже выделялась от общего фона знакомых ему дам. Он видел в этой женщине многое, чего не примечали даже восторженные взоры Марсова. Воображение его было несколько настроено уже на пламенную ноту ежедневным и непривычным для него сближением с молодой, хорошенькой дамой. Его девятнадцать лет брали свое. Лизанька представлялась ему каким-то ароматным, красивым цветком, раздавленным Бог знает чьим грубым, аляповатым сапогом. Ему было больно за нее, за себя, за многое. Потом он думал много о ней, о ее положении. Он понимал, что она была обставлена так хорошо, что многие женщины могли бы позавидовать ей, не подвергаясь за это упрекам. А она была неудовлетворена, надломлена этой же самой обстановкой. Он задавал себе вопрос: могло ли быть иначе?
Сама Лизанька между тем показалась на дорожке, которая вела от дома к подобию беседки, где сидел Богдан. В походке ее была смелость ребенка, взросшего на свободе с мечтой о гусарах. Простое белое платье, стянутое у талии золотым поясом, драпировалось очень живописно вокруг ее несколько сухоньких, но стройных и сильных членов. Бледное лицо напоминало и Офелию, и Розалинду[36]. Русые волосы горели на солнце…
— А, вы вот куда запропастились! — сказала она с обыкновенной бесцеремонностью, садясь на скамье подле Богдана.
Он не отвечал.
Лизанька увидела на его лице, что он был в таком настроении духа, в каком она не привыкла видеть его. Сама сердясь внутренне на себя, она однако же непременно хотела воспользоваться минутой и завести с ним разговор. Не знала, однако, с чего начать.
— Как вам не скучно жить без дела? — спросила она наконец.
— А вам как не скучно с теми делами, с которыми вы живете?
— Отчего мне может быть скучно: я делаю полезное.
— Стряпать на кухне тоже очень полезно, но ведь вы же этого не делаете.
— Будто женщина так и должна весь век возиться со стряпней и с хозяйством?
— Я этого не сказал. Я говорю только, что вы из полезных дел выбираете те, которые вам больше нравятся.
— Я все же не понимаю, о чем это вы говорите?
— Я говорю о ваших горячих разговорах, о ваших попытках возвести в почетное звание «человеческой личности» всякого, например Марсова, даже меня пожалуй, о ваших филантропических проектах и подвигах…
— Да разве все это не полезно? Разве не хорошо, что я стараюсь иметь влияние на молодого человека для того, чтобы поддержать его на доброй дороге? Ведь это только женщина и может сделать: для этого нужно уметь сочувствовать человеку так, как мужчины никогда не могут сочувствовать. Наконец, ведь это все, что женщина может сделать в нашем обществе.
— Этого я не думаю. Мне кажется, что женщина может сделать гораздо больше.
— Да что же? — спросила она почти с беспокойством, глядя на его смуглое лицо, имевшее в эту минуту весьма нравившийся ей, восторженный, почти аскетический характер.
— Женщина может сделать счастье человека.
Лизаньке в первый раз приходилось слышать эту фразу, произнесенную не с ребяческим жаром Марсова, а совершенно таким же серьезным тоном, с каким Николай Сергеич говорил об истинах политической экономии. Она была внутренне рада, услышавши ее.
— Вы говорите, как очень еще молодой человек, — возразила она, понимая, что пришел ее черед играть роль демона с этим юношей, отталкивавшим ее своим скептицизмом, — счастье возможно было бы только в идеальном обществе…
— Мне никаких идеалов и идеальных обществ не нужно, — говорил вспыльчиво Богдан, — мне нужно жить, нужно счастья. Я и не возьмусь ни за что, ни за какое дело, которое не будет способствовать моему счастью или чьему-нибудь счастью, все равно.
— Это в вас детский эгоизм, — отвечала ему Лизанька внушительным, несколько наставническим тоном, — это исключительность какая-то, фанатизм… Я право не знаю, что… С этим вы не можете быть полезным…
— Да мне противна и самая польза ваша, и тот идеал всеобщего мещанского довольства, которое покупается пошленькими сделками с жизнью, с обществом… Да вот вы сами: вы добились того, чего масса женщин добьется, может быть, очень не скоро еще. Муж ваш не бьет вас, вы не страдаете голодом, вы французские книжки читаете, рассуждаете о политической экономии… А что же? вы удовлетворились?
— Нет. Но ведь прежде нужно поставить массу на ту точку, на которой я стою.
— Зачем? — резко спросил Богдан, — я не вижу никакой необходимости.
— Как зачем? Какой вы, право, странный. Вы же сами высчитали те условия моей обстановки, которые позволяют мне идти дальше.
— Да. Но я прямо скажу вам, что крестьянская баба была бы еще выгоднее вас обставлена с моей точки зрения, если бы ее никто не бил, если бы она не была задавлена работой и обществом, если бы наконец сладостная перспектива быть купчихой или, пожалуй, даже барыней не имела в ее глазах прелестей таинственного неизвестного. Вы думаете, — продолжал он уже раздраженным голосом, — что вы и в самом деле пользу приносите, заводя студенческие домики, облагораживая воззрения какого-нибудь сантиментального юноши?.. А вы и не подозреваете, что вы тратите лучшее, что в вас есть, на эти грошовые соболезнования.
Он смотрел своими черными глазами в глаза Лизаньки, опущенные задумчиво к земле, совершенно закрытые длинными ресницами. Она молчала.

Впервые публикуются по инициативе итальянского историка Ренато Ризалити отдельным изданием воспоминания брата знаменитого биолога Ильи Мечникова, Льва Ильича Мечникова (1838–1888), путешественника, этнографа, мыслителя, лингвиста, автора эпохального трактата «Цивилизация и великие исторические реки». Записки, вышедшие первоначально как журнальные статьи, теперь сведены воедино и снабжены научным аппаратом, предоставляя уникальные свидетельства о Рисорджименто, судьбоносном периоде объединения Италии – из первых рук, от участника «экспедиции Тысячи» против бурбонского королевства Обеих Сицилий.

Завершающий том «итальянской трилогии» Льва Ильича Мечникова (1838–1888), путешественника, бунтаря, этнографа, лингвиста, включает в себя очерки по итальянской истории и культуре, привязанные к определенным городам и географическим регионам и предвосхищающие новое научное направление, геополитику. Очерки, вышедшие первоначально в российских журналах под разными псевдонимами, впервые сведены воедино.
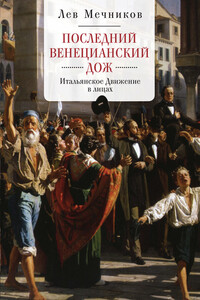
Впервые публикуются отдельным изданием статьи об объединении Италии, написанные братом знаменитого биолога Ильи Мечникова, Львом Ильичом Мечниковым (1838–1888), путешественником, этнографом, мыслителем, лингвистом, автором эпохального трактата «Цивилизация и великие исторические реки». Основанные на личном опыте и итальянских источниках, собранные вместе блестящие эссе создают монументальную картину Рисорджименто. К той же эпохе относится деятельность в Италии М. А. Бакунина, которой посвящен уникальный мемуарный очерк.

В книгу члена Российского союза писателей, военного пенсионера Валерия Старовойтова вошли три рассказа и одна повесть, и это не случайно. Слова русского адмирала С.О. Макарова «Помни войну» на мемориальной плите родного Тихоокеанского ВВМУ для томского автора, капитана второго ранга в отставке, не просто слова, а назидание потомкам, которые он оставляет на страницах этой книги. Повесть «Восставшие в аду» посвящена самому крупному восстанию против советской власти на территории Западно-Сибирского края (август-сентябрь 1931 года), на малой родине писателя, в Бакчарском районе Томской области.
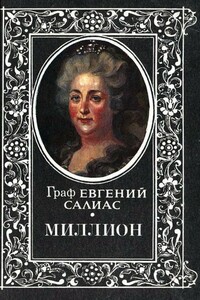
Так сложилось, что в XX веке были преданы забвению многие замечательные представители русской литературы. Среди возвращающихся теперь к нам имен — автор захватывающих исторических романов и повестей, не уступавший по популярности «королям» развлекательного жанра — Александру Дюма и Жюлю Верну, любимец читающей России XIX века граф Евгений Салиас. Увлекательный роман «Миллион» наиболее характерно представляет творческое кредо и художественную манеру писателя.
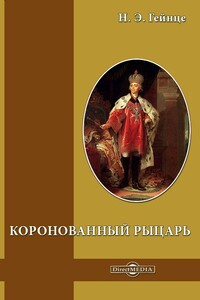
Роман «Коронованный рыцарь» переносит нас в недолгое царствование императора Павла, отмеченное водворением в России орденов мальтийских рыцарей и иезуитов, внесших хитросплетения политической игры в и без того сложные отношения вокруг трона. .
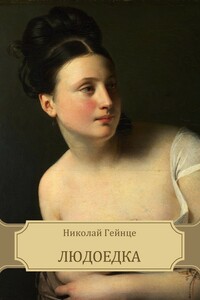
Гейнце писал не только исторические, но и уголовно-бытовые романы и повести («В тине адвокатуры», «Женский яд», «В царстве привидений» и пр.). К таким произведениям и относится представленный в настоящем издании роман «Людоедка».
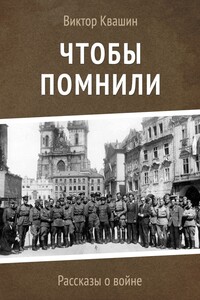
Фронтовики — удивительные люди! Пройдя рядом со смертью, они приобрели исключительную стойкость к невзгодам и постоянную готовность прийти на помощь, несмотря на возраст и болезни. В их письмах иногда были воспоминания о фронтовых буднях или случаях необычных. Эти события военного времени изложены в рассказах почти дословно.
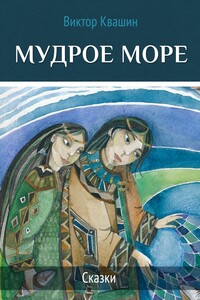
Эти сказки написаны по мотивам мифов и преданий аборигенных народов, с незапамятных времён живущих на морских побережьях. Одни из них почти в точности повторяют древний сюжет, в других сохранилась лишь идея, но все они объединены основной мыслью первобытного мировоззрения: не человек хозяин мира, он лишь равный среди других существ, имеющих одинаковые права на жизнь. И брать от природы можно не больше, чем необходимо для выживания.

Представлена история жизни одного из самых интересных персонажей театрального мира XX столетия — Николая Александровича Бенуа (1901–1988), чья жизнь связала две прекрасные страны: Италию и Россию. Талантливый художник и сценограф, он на протяжении многих лет был директором постановочной части легендарного миланского театра Ла Скала. К 30-летию со дня смерти в Италии вышла первая посвященная ему монография искусствоведа Влады Новиковой-Нава, а к 120-летию со дня рождения для русскоязычного читателя издается дополненный авторский вариант на русском языке. В книге собраны уникальные материалы, фотографии, редкие архивные документы, а также свидетельства современников, раскрывающие личность одного из представителей знаменитой семьи Бенуа. .
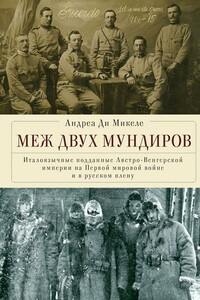
Монография Андреа Ди Микеле (Свободный университет Больцано) проливает свет на малоизвестный даже в итальянской литературе эпизод — судьбу италоязычных солдат из Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Уроженцы так называемых ирредентных, пограничных с Италией, земель империи в основном были отправлены на Восточный фронт, где многие (не менее 25 тыс.) попали в плен. Когда российское правительство предложило освободить тех, кто готов был «сменить мундир» и уехать в Италию ради войны с австрийцами, итальянское правительство не без подозрительности направило военную миссию в лагеря военнопленных, чтобы выяснить их национальные чувства.

Одно из самых знаменитых российских семейств, разветвленный род Бобринских, восходит к внебрачному сыну императрицы Екатерины Второй и ее фаворита Григория Орлова. Среди его представителей – видные государственные и военные деятели, ученые, литераторы, музыканты, меценаты. Особенно интенсивные связи сложились у Бобринских с Италией. В книге подробно описаны разные ветви рода и их историко-культурное наследие. Впервые публикуется точное и подробное родословие, основанное на новейших генеалогических данных. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
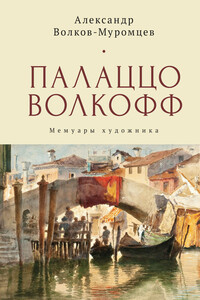
Художник Александр Николаевич Волков-Муромцев (Санкт-Петербург, 1844 — Венеция, 1928), получивший образование агронома и профессорскую кафедру в Одессе, оставил карьеру ученого на родине и уехал в Италию, где прославился как великолепный акварелист, автор, в первую очередь, венецианских пейзажей. На волне европейского успеха он приобрел в Венеции на Большом канале дворец, получивший его имя — Палаццо Волкофф, в котором он прожил полвека. Его аристократическое происхождение и таланты позволили ему войти в космополитичный венецианский бомонд, он был близок к Вагнеру и Листу; как гид принимал членов Дома Романовых.