На всемирном поприще. Петербург — Париж — Милан - [16]
— Вы и не подумаете, — продолжал Богдан, все более и более разгорячаясь, — что ваш зефирный вид в этом белом кокетливом платье, что возможность праздно проводить время и все другие ваши преимущества, которые вы и не примечаете, на вашу горничную производят тоже своего рода впечатление. Она смеется над вашим горем, над вашими слезами. Объясняет себе все это очень последовательно невежливой поговоркой: «с жиру собаки бесятся». Она понимает, что со всем этим ваше положение все-таки лучше ее. Немудрено, что ее любимой мечтой добиться и себе такой же благодати.
— Что же? Вы бы хотели, чтобы я пошла в горничные? Отказалась бы от всего и сделалась бы крестьянкой? — спросила Лизанька, поднимая на него свои глаза, в которых уже и следу не было задумчивости, — ведь это мы к Жан-Жаку вернемся.
— Я ничего не хочу. Я только хочу показать вам, что вы жестоко увлекаетесь, воображая, будто делаете какое-то «высокое дело». Да еще сзываете к себе других. На вашей дороге никакое серьезное дело невозможно. Со всем вашим рвением на пользу общую вы такая же эгоистка, как и я. Вы откупились от дела и очень дорожите этим. Но в праздности вы чувствуете потребность своего рода гимнастики. Я тоже ее чувствую. Но я беру верховую лошадь в манеже и не говорю, что благодетельствую или спасаю человечество тем, что прокружусь на ней час или полтора… Дело за всех нас делают другие. Они им и задавлены, этим делом, потому что мы его делать не хотим. Добро бы мы пользоваться этим умели. А и того нет…
— Так вы совершенно на одну доску поставите Nicolas, который трудился честно всю свою жизнь, разбогател, никого не разоривши, и теперь дает все, что может, тем, которые нуждаются в деньгах, — и какого-нибудь К-ва, например, который разбогател грабежом. Если и дает что-нибудь, то только там, где может выказаться. Думает благодетельствовать человека, бросая ему, как собаке, то, что сам съесть не может…
— И то нет. Но я и того и другого беру просто, как человека совершенно независимо от вашего «высокого дела». Бывают всякие люди, и хорошие, и дурные, и такие, которых ни в какую рамку не вгонишь. Для меня дорог тот человек, который сумеет отстоять против общей пошлости то, с чем хорошо живется людям. Для себя или для других, мне это решительно все равно. Тут ведь никаких патентов и привилегий нет: что выработано одним, то становится достоянием всякого, кому оно по плечу, кто в нем нуждается.
— Да, но ведь столько людей голодных, которым хлеба только и нужно.
— Но ведь филантропией вы их не накормите. Политиканством тоже.
V
Студенты возвращались в Петербург оба в каком-то ненормальном, почти натянутом настроении духа.
Марсов был как будто недоволен своим товарищем. Экспансивная его натура требовала высказаться. Он не знал только, к чему придраться, с чего начать неприязненный разговор. К тому же Спотаренко не щадил свою куцую кобылу и то скакал скорым галопом, то пускал ее крупной рысью, так что и физической возможности разговаривать не было.
Взъезжая на охтенскую мостовую, Богдан приостановил наконец взмыленного своего буцефала.
— Вот послушался я твоего совета, — начал Марсов, — нам каждому придется рублей по двадцати заплатить берейтору. Извозчик бы стоил вчетверо дешевле. Охота же глупо сорить деньгами.
— Да ведь мы же думали каждый день гулять верхом вместе с m-me Стретневой. Она виновата, что лошади простояли даром на конюшне.
— Ты, кажется, не очень жалеешь об этом, — сказал белокурый юноша. Хотел сказать с иронией, но вышло как-то очень грустно. У него были готовы брызнуть слезы.
Богдану даже жаль его стало.
— Кто бы мог предположить в тебе такого Отелло, — сказал он, — впрочем, ведь ты просто ребячишься. Нельзя же ревновать женщину за то, что она говорит иногда с посторонним человеком.
— Кто же сказал тебе, что я ревную? Я, во-первых, не имею на это никакого права…
— Ну, первое не живет. Кто же дожидается ввода во владение, чтобы ревновать?
— Не остри, пожалуйста. Я тебе серьезно говорю: я не ревную. Мне больно больше за Лизаньку, чем за себя.
— Да объясни пожалуйста, что же тебе больно?
— Я тебя считаю за умного, талантливого человека. Я даже предсказываю тебе заранее успех в твоих занятиях живописью… У тебя художественная натура…
— Позолотишь пилюлю потом. Теперь давай ее как есть. Начинай прямо с но, которое непременно встретится в твоей речи.
— Но… я не пожелал бы тебя мужем своей сестре или…
— Или?
— Женщине, почему-нибудь мне близкой.
— Ты совершенно прав. Я бы тоже не пожелал женщине, в которую я влюблен, мужа, вроде меня. Но только я не понимаю, каким образом все это идет к делу? Плохого же ты мнения о Лизаньке, если ты думаешь, что она так и отдаст первому встретившемуся хорошему человеку и сердце, и все…
Марсов вспыхнул.
— Я вовсе этого не говорю и не думаю. Я знаю только одно, что мучить женщину нетрудно. Я не думаю, что Лизанька в тебя влюбится — конечно нет. Но ты можешь нарушить ее покой. А у нее бедной и так немало горя.
— Из всего я понимаю только одно: ты просто сердишься, что подошел новый человек и что его уже не считают за сумасшедшего или за отъявленного негодяя. По обыкновению ты сам себе не признаешься в этом не совсем возвышенном чувствьице. Хочешь все его вывести из рыцарски чистого источника. Только тебе это не удается. Ты говоришь такой вздор, что и понять нельзя.

Впервые публикуются по инициативе итальянского историка Ренато Ризалити отдельным изданием воспоминания брата знаменитого биолога Ильи Мечникова, Льва Ильича Мечникова (1838–1888), путешественника, этнографа, мыслителя, лингвиста, автора эпохального трактата «Цивилизация и великие исторические реки». Записки, вышедшие первоначально как журнальные статьи, теперь сведены воедино и снабжены научным аппаратом, предоставляя уникальные свидетельства о Рисорджименто, судьбоносном периоде объединения Италии – из первых рук, от участника «экспедиции Тысячи» против бурбонского королевства Обеих Сицилий.

Завершающий том «итальянской трилогии» Льва Ильича Мечникова (1838–1888), путешественника, бунтаря, этнографа, лингвиста, включает в себя очерки по итальянской истории и культуре, привязанные к определенным городам и географическим регионам и предвосхищающие новое научное направление, геополитику. Очерки, вышедшие первоначально в российских журналах под разными псевдонимами, впервые сведены воедино.
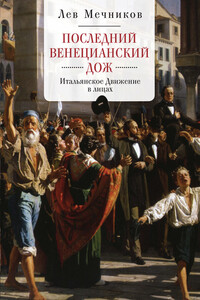
Впервые публикуются отдельным изданием статьи об объединении Италии, написанные братом знаменитого биолога Ильи Мечникова, Львом Ильичом Мечниковым (1838–1888), путешественником, этнографом, мыслителем, лингвистом, автором эпохального трактата «Цивилизация и великие исторические реки». Основанные на личном опыте и итальянских источниках, собранные вместе блестящие эссе создают монументальную картину Рисорджименто. К той же эпохе относится деятельность в Италии М. А. Бакунина, которой посвящен уникальный мемуарный очерк.

В книгу члена Российского союза писателей, военного пенсионера Валерия Старовойтова вошли три рассказа и одна повесть, и это не случайно. Слова русского адмирала С.О. Макарова «Помни войну» на мемориальной плите родного Тихоокеанского ВВМУ для томского автора, капитана второго ранга в отставке, не просто слова, а назидание потомкам, которые он оставляет на страницах этой книги. Повесть «Восставшие в аду» посвящена самому крупному восстанию против советской власти на территории Западно-Сибирского края (август-сентябрь 1931 года), на малой родине писателя, в Бакчарском районе Томской области.
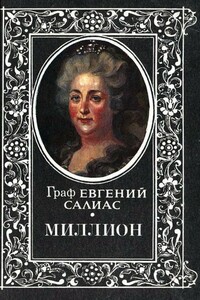
Так сложилось, что в XX веке были преданы забвению многие замечательные представители русской литературы. Среди возвращающихся теперь к нам имен — автор захватывающих исторических романов и повестей, не уступавший по популярности «королям» развлекательного жанра — Александру Дюма и Жюлю Верну, любимец читающей России XIX века граф Евгений Салиас. Увлекательный роман «Миллион» наиболее характерно представляет творческое кредо и художественную манеру писателя.
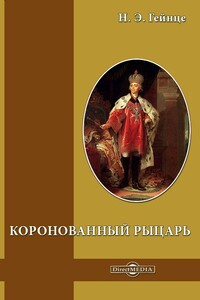
Роман «Коронованный рыцарь» переносит нас в недолгое царствование императора Павла, отмеченное водворением в России орденов мальтийских рыцарей и иезуитов, внесших хитросплетения политической игры в и без того сложные отношения вокруг трона. .
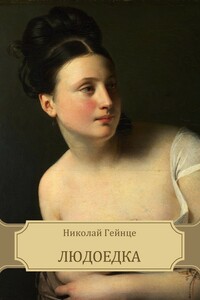
Гейнце писал не только исторические, но и уголовно-бытовые романы и повести («В тине адвокатуры», «Женский яд», «В царстве привидений» и пр.). К таким произведениям и относится представленный в настоящем издании роман «Людоедка».
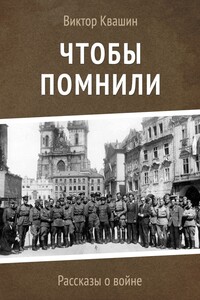
Фронтовики — удивительные люди! Пройдя рядом со смертью, они приобрели исключительную стойкость к невзгодам и постоянную готовность прийти на помощь, несмотря на возраст и болезни. В их письмах иногда были воспоминания о фронтовых буднях или случаях необычных. Эти события военного времени изложены в рассказах почти дословно.
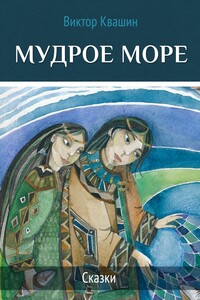
Эти сказки написаны по мотивам мифов и преданий аборигенных народов, с незапамятных времён живущих на морских побережьях. Одни из них почти в точности повторяют древний сюжет, в других сохранилась лишь идея, но все они объединены основной мыслью первобытного мировоззрения: не человек хозяин мира, он лишь равный среди других существ, имеющих одинаковые права на жизнь. И брать от природы можно не больше, чем необходимо для выживания.

Представлена история жизни одного из самых интересных персонажей театрального мира XX столетия — Николая Александровича Бенуа (1901–1988), чья жизнь связала две прекрасные страны: Италию и Россию. Талантливый художник и сценограф, он на протяжении многих лет был директором постановочной части легендарного миланского театра Ла Скала. К 30-летию со дня смерти в Италии вышла первая посвященная ему монография искусствоведа Влады Новиковой-Нава, а к 120-летию со дня рождения для русскоязычного читателя издается дополненный авторский вариант на русском языке. В книге собраны уникальные материалы, фотографии, редкие архивные документы, а также свидетельства современников, раскрывающие личность одного из представителей знаменитой семьи Бенуа. .
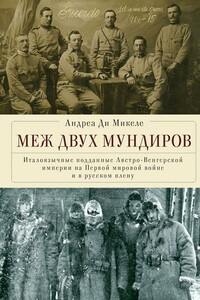
Монография Андреа Ди Микеле (Свободный университет Больцано) проливает свет на малоизвестный даже в итальянской литературе эпизод — судьбу италоязычных солдат из Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Уроженцы так называемых ирредентных, пограничных с Италией, земель империи в основном были отправлены на Восточный фронт, где многие (не менее 25 тыс.) попали в плен. Когда российское правительство предложило освободить тех, кто готов был «сменить мундир» и уехать в Италию ради войны с австрийцами, итальянское правительство не без подозрительности направило военную миссию в лагеря военнопленных, чтобы выяснить их национальные чувства.

Одно из самых знаменитых российских семейств, разветвленный род Бобринских, восходит к внебрачному сыну императрицы Екатерины Второй и ее фаворита Григория Орлова. Среди его представителей – видные государственные и военные деятели, ученые, литераторы, музыканты, меценаты. Особенно интенсивные связи сложились у Бобринских с Италией. В книге подробно описаны разные ветви рода и их историко-культурное наследие. Впервые публикуется точное и подробное родословие, основанное на новейших генеалогических данных. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
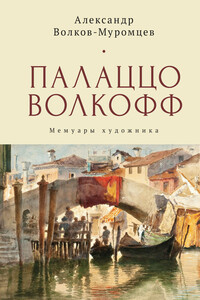
Художник Александр Николаевич Волков-Муромцев (Санкт-Петербург, 1844 — Венеция, 1928), получивший образование агронома и профессорскую кафедру в Одессе, оставил карьеру ученого на родине и уехал в Италию, где прославился как великолепный акварелист, автор, в первую очередь, венецианских пейзажей. На волне европейского успеха он приобрел в Венеции на Большом канале дворец, получивший его имя — Палаццо Волкофф, в котором он прожил полвека. Его аристократическое происхождение и таланты позволили ему войти в космополитичный венецианский бомонд, он был близок к Вагнеру и Листу; как гид принимал членов Дома Романовых.