На великом стоянии [сборник] - [17]
— А вы, Захар Капитоныч, не иначе как и раньше заглядывались на нее? — сунулся с лукаво‑ласковым замечанием Лысухин.
— Ой нет. И в мыслях даже не держал того. Уважал — это верно: за ум, за приверженность к делу да за нрав под стеклом… А на кладбище‑то она растревожила меня тем, к чему уж не следует пришивать ничего лишнего. Да и вдаваться‑то во многое мне не довелось там: пожалуй, не простоял и трех минут у могилы Марфы, как позади вторгнулся в тишину шум. Оглянулся: за крестами, над иван‑чаем, пух‑то его вздыбился облачком, быть от вихря. И не по ушам — по сердцу стегнул мне женский голос: «Не забирайте в сторону. Вот он где шел». Сразу понял: все‑таки всполохнул я на картофельнике баб. Не утерпели, поспешили на проверку меня по моему же следу. Первой выбралась из бурьяна Парасковья Рунтова. Муж ее был в колхозе бригадиром. Его мобилизовали в начале сорок четвертого, а погиб он перед самым концом войны. Бригадирство‑то после него так и осталось за Парасковьей по настоянию баб. Увидала она меня — и со всех ног ко мне. Засновала между могил, что с крестами, а по открытым‑то побежала напрямик, как по приступкам. Запыхалась и остановилась, ухватившись за сухое пнище бузины невдалеке от меня. Поскидала с лица паутину и огласила остальных, подоспевших к ней: «Да он это, Захар Капитоныч! — Еще перешагнула через две могилы и с душевным простоном поклонилась мне: — Отслужился, дорогой ты наш воин! И на‑ка, к самой пожаловал допрежь всего. Экий ты правильный человек! Не дождалась тебя Марфа‑то Григорьевна, да хоть доступ‑то к ней не потерялся. А нас известили в похоронках про своих, но попробуй‑ка найти, где они головушки сложили? Про сынка отписано — «под Смоленском», а про самого — «на Шпрее». А чередом не указано. От солнышка отказалась бы, кабы кто взялся отвести за такое да ткнуть как слепую в точное место». И взахлеб разревелась в фартук, не чувствуя того, что он в земле. Слезно взвыли по той же причине и другие бабы. А девки сомкнулись за ними и не спускали с меня глаз в немой тоске.
12
Старик прервал свой рассказ и, навытяжку выпрямившись корпусом, обратился взглядом и слухом к углу направо, за которым на воле плеск воды, падавшей с желоба в переполненный чан, слышен был явственнее шума ветра и дождя.
— Наверно, под чаном‑то уж набралась лужа, — высказал то, что в мыслях держалось подспудно. — Надо спустить, не то вода просочится в подполье.
Он наспех обулся, надел плащ и отлучился. Вернулся невдолге и сообщил:
— Протяпал колуном бороздку. Теперь вода не застоится, под гору сбежит. — Плащ снял и повесил, а разулся уж после того, как принес из сеней в рулон свернутый и перевязанный бечевкой матрац из поролона, распустил его и прислонил к кровати. — Поотволг в прохладном‑то месте. Обсохнет — и постелю на кровати сверху всего. На него и ляжете.
— А вы где? — спросил Лысухин хозяина, сунувшего сапоги под стремянку, по которой взбираются на печь.
— Вон мое‑то место, — кивнул старик вверх, на печку. — Там настил из досок и тюфяк на нем, чтобы не зажариться на голых кирпичах. Кочет не несушка — знает свой насест. — С шутливой журбой о себе опять сел напротив гостя, смотревшего на него в томном ожидании, и спросил смеясь: — Свое вас томит, Вадим Егорыч?
— Не понимаю, про что вы, Захар Капитоныч? — смущенно оживился Лысухин.
— Как же не понять? Про старую погудку: «Не уложишь работника ужином без хлеба, а малютку сказкой, без конца». Так ведь?
— Точно, — согласился Лысухин, но усомнился в другом: — Неужели ваши колхозницы, Захар Капитоныч, бросили работу при виде вас и из любопытства увязались за вами? Даже не верится.
— Ничего к вам от выдумки у меня, — построжал старик. — Так оно и было тогда. Их толкнуло ко мне не только любопытство, а пуще то, чтобы выплеснуться неуемной мукой о своих родных, что не вернулись к ним с проклятой бойни. Они сперва выревелись вволю, а тут уж вдались и в разговор обо мне. Та же Парасковья Рунтова отняла от лица фартук да всхлипнула еще раз напоследок и с прищуром глянула на меня мокрыми, до красноты натертыми глазами. «А ведь ты ничуть не изменился, Захар Капитоныч, — сказала в удивлении. — Даже вроде помолодел. Справный, как огурчик». — «Да от него духам попахивает», — подколола меня со смешком самая разбитная из вдовых солдаток‑молодух Шурка Цыцына, что ближе всех оказалась возле меня. И точно хвои подкинула в костер: сразу многие распечатались улыбкой и уставились на меня бодрее. Я, верно, еще накануне, вечером, как слез с поезда, застал на станции парикмахерскую открытой и зашел подравняться, навести фасон, как полагается отпускнику по чистой. И хотя всю ночь и с утра до одиннадцати ехал до Ильинского на попутной подводе да часа полтора шагал до дому, одеколон‑то, оказалось, не совсем выдохся под пилоткой, которую я снял у могилы Марфы. Шуркин‑то нюх и выдал меня, и это сразу обернулось мне боком. Ее старшая сестра Наталья, у которой после мужа осталось на руках четверо ребят да престарелый слепой свекор, сказала про меня: «Что ему не прихорошиться, коли вернулся на своих ногах и во всем новеньком. Да и служба выдалась — ладней не надо: сперва все на колесах при вывозке того, чего не удавалось захватить немцам, а потом гвоздком приткнулся к одному месту, где ни голода, ни холода, ни сморода. А мой Назар как явился после пасхи по повестке в сорок втором, так и высунули вскоре на передовую под Харьков. Тут фашисты снова навалились, как в начале войны, и пришлось отступать до самого Сталинграда. Только три письмеца удосужился черкнуть и мало жаловался на свои тяготы. «Днем, — писал, — отбиваемся на ходу, а ночью окапываемся, чтобы закрепиться. Бывает, сутками держим оборону, пока опять не прикажут отойти. К страху притерпелся, к недосну привык, но на лопатку имею зуб: не подскажет, на сколько колодцев выкидал земли и на сколько еще придется». Для нас он в усмешку про лопатку‑то: пусть, мол, верят, что она его не подведет. Да не по нем получилось: землей спасался, в земле и остался». Она всхлипнула и в нитку поджала губы, а живот запал: видать, крепилась, чтобы не разреветься снова. После нее, скажи, хоть бы кто подкинул словечко. Одни смотрели на меня строго, а другие — хуже того — отвернулись. С их молчанья у меня перехватило дыхание, как от ваты с наркозом перед операцией. Едва сглотнул сухоту в горле и заговорил в свое оправдание: «Бабоньки… дорогие! Нет моей вины, что не попал на передовую — честное партийное! Просился, но угодил на колеса согласно распоряжения. А ломки да маеты в транспортной бригаде принял не меньше фронтовиков при налетах фашистской авиации: то насыпь обрушит вместе с полотном, то груз скинет с платформы воздушной волной. Стрелку при спаренном пулемете только крутись да пали, а мы за свое: тащим к месту повреждения все запасное, что возили с собой на аварийные случаи: рельсы, шпалы, крепежный материал. Теперь ума не приложу, как это мы успевали управляться под бомбежкой и выхватывать состав из опасной зоны. Винтовка была у каждого из нас. Да до нее ли, когда копошишься, как мураш у поврежденного муравейника? Стрелять уж совсем не приходилось. И на Дальнем Востоке строго‑настрого было приказано держаться тихо — в соблюдение мирного договора. Если в сопках стоишь на посту и на тебя невзначай наткнется лазутчик или бродячий кабан, не вздумай пустить пулю, наделать сполоху. Обороняйся штыком — холодным оружием. Так оно и получилось, что я за всю войну только чистил винтовку‑то, раек наводил. Но сам не уберегся, самого позашабрило». Тут я тоже, как и вам, показал им оголенную‑то спину. Доглядеть не мог, что с ними сталось при виде ее: голова‑то ведь быть в мешке очутилась в задранной гимнастерке вместе с рубашкой. Зато меня даже прознобило от их испуганных аханий и всяких возгласов, каких уж не упомню сейчас. Одним этим не обошлось: насунулись щупать мой рубец. Вы видели, какая кожа на нем: хлипче заболони. А им ни к чему, что пальцы у них в земле и царапкие, как наждак. Но я не только терплю, а даже замираю от приятности, точно кошка, которую гладят. И про себя ликую: «Приняли! Теперь лады. Как хорошо, что не без пропуска вернулся к ним!..» Не знаю, все ли, потрогали мой шрам. Перестали, когда Парасковья оговорила их: «Хватит прикладываться, быть прежде к воде монастырского ключика страстотерпца Макария. Закройся, Захар Капитоныч». Сама же задернула на мне гимнастерку с рубашкой. Я не успел еще подпоясаться ремнем, как Наталья повинилась мне: «Прости меня, Захар Капитоныч, за безрассудный выпад! Страдалец ты и с наше к доле злой причастен». Тут я на уговор: «С чего мне обижаться, Наталья Тимофеевна? Одной бедой мы все повязаны и должны сознавать». Она спросила: «Тебе уж, наверно, с твоим увечьем к щепке не нагнуться и не поднять ее?» — «Щепку‑то, — говорю, — подниму, а вот к мешку с картошкой не подступлюсь: такое заказано». А Парасковью подмывало главное: «Как теперь определяться будешь?» — Пока, мол, не решил. Не минешь, где полюднее, впритык к молве да новизне, чтобы не заедала в одиночестве тоска. Пожалуй, подамся в проводники на железную дорогу: самое сподручное дело в моем положении». Парасковью так и передернуло: «И не выдумывай! — осадила меня. — Куда тебе от нас, на какую еще людность? Тоска‑то позападет и здесь. Куда ни ткнись, ее уж нигде не размотаешь совсем — ни в каком бойком месте. Нечего и смышлять, что где‑то вольготней. Давай‑ка опять в колхоз на прежнюю должность. После тебя у нас уж третий председатель. Дарья Цыцына недолго продержалась: сняли за неуправу. Только зыкала на нас, а у самой не было толку вникать в хозяйство. Сдала дела Семену Бородулину из Прилужья. Ты, чай, знаешь его: страховым ходил по всем деревням нашего сельсовета? Он прихрамывает. А про таких верно говорится: «Вор‑нога». Допустил недостачу. Хоть и покрыл ее, но за подрыв доверия его бы ни за порог из дому, да война отняла порядочных‑то людей. Его и подсунули к нам. У этого на всех хватало обходительности, да только глаза отводил каждому таким поведением, а сам ухитрялся завышать поставки и излишки от них потихоньку переправлял родне. На том и погорел: мало, убрали от нас, исключили из партии и отдали под суд. А теперешний председатель прислан из района. Воевал и освобожден по ранению. Дело знает, но тем недоволен, что у нас глухо. Семью не выписывал и все хлопотал о переводе. И добился своего: посылают на какие‑то высшие курсы. Так что бери у него ключи, раз подоспел вовремя». Все, как она, с той же просьбой ко мне. Я не стал настаивать на своем, но сказал в осадку им, что, мол, не от меня зависит. «Мы составим заявление и все подпишемся, — заверила Парасковья. — Сегодня же. Докопаем картошку на загоне и к вечеру придем к тебе примывать избу. Расколачивай окошки!» Тут Шурка опять вогнала меня в краску: «Не расколачивай, Захар Капитоныч: влезем. Не наша ежели, так чужая. Доглядит, как отстираешься да вывесишь на просушку споднее, сразу догадается, что живешь один, и той же ночью, не успеешь очухаться, подвалится и зачурит тебя». Такой взорвался хохот, что мне бы хоть провалиться с глаз их. Парасковья для блезиру посрамила Шурку: «Оторвать бы тебе твой негодный язык, Сашка! Надо же брякнуть такое про степенного человека. Экая бесстыжая хабалка!»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман «Своя судьба» закончен в 1916 г. Начатый печатанием в «Вестнике Европы» он был прерван на шестой главе в виду прекращения выхода журнала. Мариэтта Шагиняи принадлежит к тому поколению писателей, которых Октябрь застал уже зрелыми, определившимися в какой-то своей идеологии и — о ней это можно сказать смело — философии. Октябрьский молот, удар которого в первый момент оглушил всех тех, кто сам не держал его в руках, упал всей своей тяжестью и на темя Мариэтты Шагинян — автора прекрасной книги стихов, нескольких десятков психологических рассказов и одного, тоже психологического романа: «Своя судьба».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
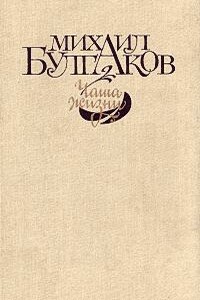
Глав-полит-богослужение. Опубликовано: Гудок. 1924. 24 июля, под псевдонимом «М. Б.» Ошибочно републиковано в сборнике: Катаев. В. Горох в стенку. М.: Сов. писатель. 1963. Републиковано в сб.: Булгаков М. Записки на манжетах. М.: Правда, 1988. (Б-ка «Огонек», № 7). Печатается по тексту «Гудка».

Эту быль, похожую на легенду, нам рассказал осенью 1944 года восьмидесятилетний Яков Брыня, житель белорусской деревни Головенчицы, что близ Гродно. Возможно, и не все сохранила его память — чересчур уж много лиха выпало на седую голову: фашисты насмерть засекли жену — старуха не выдала партизанские тропы, — угнали на каторгу дочь, спалили дом, и сам он поранен — правая рука висит плетью. Но, глядя на его испещренное глубокими морщинами лицо, в глаза его, все еще ясные и мудрые, каждый из нас чувствовал: ничто не сломило гордого человека.

СОДЕРЖАНИЕШадринский гусьНеобыкновенное возвышение Саввы СобакинаПсиноголовый ХристофорКаверзаБольшой конфузМедвежья историяРассказы о Суворове:Высочайшая наградаВ крепости НейшлотеНаказанный щегольСибирские помпадуры:Его превосходительство тобольский губернаторНеобыкновенные иркутские истории«Батюшка Денис»О сибирском помещике и крепостной любвиО борзой и крепостном мальчуганеО том, как одна княгиня держала в клетке парикмахера, и о свободе человеческой личностиРассказ о первом русском золотоискателе.