На великом стоянии [сборник] - [19]
Уборочная не позволяла мне засиживаться в конторе: дорог был каждый день, чтобы управиться вовремя. Благо имелись и условия. Председатель, которого я сменил, не оставил меня у разбитого корыта. До войны он был агрономом, а на фронте политруком. В сорок четвертом году освободился по ранению: навсегда окунул левый рукав в карман. Ему удалось заполучить через военкомат для колхоза трех трофейных лошадей. С привода они были очень слабы, сморены и подорваны. Едва поправились на наших выпасах. А чалый крупный мерин, которого председатель назвал на мой манер — с загвоздкой — Гудерианом, хоть и повыровнялся в теле, но кувылять не перестал, и подковы не держались на растрескавшихся копытах. Я потому так озабоченно крутился везде по хозяйственным делам под конец уборочной, что мне гребтил трудодень: надо было что‑то выкроить за него на весь тот не суливший сытости послевоенный год. Зерно почти все утекло из закромов на хлебосдачу по повышенному плану да в уплату за вспашку зяби по договору в открывшейся тогда в Ильинском МТС. Вся надежда оставалась на картошку и лен. Их удалось‑таки выхватить до заморозков с поля в хранилище да под навес. Старшеклассников ильинской школы на две недели сняли с учебы и посылали в помощь колхозам. Я договорился с директором, чтобы наши алферинские ребята работали у нас же. Они славно пособили колхозникам околотить лен цепами да вальками. Мы первыми в районе свезли на заготпункт тресту и льносемя, а в стимуляцию за них получили пшеницу. Вот только тогда я отмотался и ожил, вроде прута под берегом после схлынувшего половодья. Дел в колхозе поубавилось. Теперь бригадир Парасковья Рунтова одна могла доглядеть, как и что ладилось везде, и только в крайнем случае приходила ко мне за советом в контору, где я просматривал документацию, сверяясь, все ли в порядке, не просрочено ли что, нет ли в чем издержек. И поражался, как аккуратно вела счета Секлетея. Повторюсь про нее: при первой встрече с ней в конторе она, без черного платка, каким повязывалась до войны, уж не показалась мне похожей на монашку, и я подумал, не переменилась ли она и в убеждениях. И обманулся. Когда она от души поздравила меня с возвращением, я тут же поблагодарил ее за то, что привела в порядок могилу Марфы на Сутягах. Она стеснительно потупилась, навытяжку напустила по талии свою пухлявую кофту, связанную из зеленой шерсти, потом вникло глянула на меня и сказала: «Могла ли я иначе, Захар Капитоныч? Ведь вас и меня одинаково поквитал бог в напастях». Я хотел было сослаться вместо бога на судьбу, да оно все равно не меняло смысла: «поквитал», «поквитала» — какая тут разница? Смолчал. А после у меня из головы не выходило это ее вроде двойственное «поквитал». Днями все думалось, что в нем крылось: наказал или уравнял?.. Иначе творя, так подвернула воз к крыльцу, что ни сдвинуть его, ни перелезти через него. И досадовал на себя за неотвязные догадки: она мне в дочери приходилась, а я, поди ж ты, не мог справиться с собой…
14
На подступах признания о своих сердечных чувствах к Секлетее старик не усидел — из побуждения разрядиться движением, что было свойственно его натуре. При этом не мог обойтись без того, чтобы не заняться чем‑нибудь. И в этот раз снял с гвоздя фуфайку, висевшую рядом с плащом, но не стал надевать ее, а свернул исподней стороной наружу, поднялся на одну ступеньку стремянки и положил фуфайку на край печи, к стене — предварительно в изголовье себе. Из‑под рук его неожиданно юркнул на стремянку тучный дымчатый кот и со стуком спрыгнул на пол.
— Ишь ты! — воскликнул старик, глянув на него сверху. — Вон где оказался, я и не заметил. Тихой сапой пробрался на теплецо перед непогодой‑то.
Кот между тем лениво направился к порогу, но не приблизился к нему вплотную, в дугу выгнулся всем корпусом, потряс задранным кверху хвостом и сел. Старик подошел к двери и взялся за скобу, чтобы выпустить кота. Но кот вдруг отпрянул назад, к стремянке, и в два скорготных зацапа махнул по ней обратно на печь. Старик взглядом проследил за его исчезновением там, в затемках, и засмеялся.
— Видали номер? — обернулся к Лысухину. — Как в цирке. Заспался, и тошно стало. А на волю сдрейфил: лапы замочишь.
— Здоровяга он у вас. На енота потянет по величине и меху, — оценочно высказался Лысухин.
— Отъелся на природных‑то харчах. Редкий день заглянет домой. Сейчас ему особенно кормно в лесу и под берегом: птенчики вывелись, голос подают на пагубу себе. Лафа браконьерить, поскольку он неподсудный.
Лысухина покоробило от нелестного осуждения кота хозяином: сказанное об алчном хищнике он невольно воспринял, как намек на себя. Но похоже, не было причины беспокоиться из‑за случайных слов: старик сел и как ни в чем не бывало заговорил с тем же распахнуто‑откровенным выражением на лице, каким оно было до очередной его разминки:
— До конца уборочной нам с Секлетеей хватало разговоров только по делу. Но и после, оставаясь наедине, у нас никак не клеилось обмолвиться о чем‑нибудь, хоть про других, не говоря уже о себе. Пухнем всяк за своим столом, то взаправду по занятости, то иной раз, как выдастся досуг, прикрываясь видимостью ее: Секлетея быть что‑то составляет да изредка щелкнет на счетах, а я без надобности перебираю уж что проверено в подшивках. А попретит маскироваться — уткнусь в газету. Нам было одинаково неловко, когда переглянемся украдкой и изловим на том себя. И хоть разные во всем, но нам не терпелось войти в доверие друг к другу, как это проще случается с чужими, а не то что с соседями, да еще под одной крышей. За два дня перед праздником Октябрьской революции Секлетея подала мне на подпись ведомость на выдачу колхозникам натурплаты по трудодням. Я просмотрел, кому что причитается, и спросил: «А почему, Секлетея Ивановна, ни тут, ни в других расчетных ведомостях я не вижу и не знаю, сколько вам полагается за помещение, отданное под контору?» Она перестала писать и взглянула на меня улыбчиво и мягко: «Я отказалась от платы за него, Захар Капитоныч. Оно жертвенно отведено мной во здравие или в поминовение за Федю — как оно виднее богу». Я только покачал головой: «Ах, Секлетея Ивановна, Секлетея Ивановна! С лица вы очень обновились: краше стали без черного‑то платка, без чужинки этой. А насчет убеждений, скажу прямо, застряли на задворках». Она не обиделась, даже подтвердила: «Куда же деться от себя? Горбатого исправит могила. А за то, что краше стала, как вы сказали, спасибо. Такое каждой женщине любо. Я тоже не умолчу в похвалу вам: каким вы были до войны, таким мне кажетесь и сейчас. Если бы не эта гимнастерка на вас, а тот пиджак, в каком вы ходили тогда, то никак бы не поверилось, что отлучались отсюда на целых четыре года. Все в вас сохранилось: и бодрость, и легкость на ногу, и беспокойство да стремленье, чтобы поспеть туда, сюда. Вам во спасенье воздержание. Раньше вы были непьющим, некурящим и сейчас не вяжетесь. Некоторые из фронтовиков хоть и приехали домой, да находятся в плену у водки. Бывает, утром, как прислушаешься к их шепоту перед нарядом, одно у них на языке, где бы урвать на поправку». Жены‑то не рады им. Чего выкроишь на них из трудодня? Даже собираются выпроводить их от домашнего хлеба да семейных неурядиц в леспромхоз на зимний сезон: там‑де вольней у денег — пусть и тешат себя. А может, усовестятся и уберегут копейку‑другую, жалеючи деток. — Она вдруг прыснула смехом под локоть себе и снова уставилась на меня с веселым прищуром. — А вы, Захар Капитоныч, вроде совсем не бранитесь теперь вашим ругательным «еж в карман»?» Меня тоже пробрал смех: «Отвык, Секлетея Ивановна. Еще в самом начале войны. Бывало, под сумерки подадим состав на погрузку и всю ночь громоздим на платформы что прикажут. В тыл на всех парах уматывали до рассвета, пока не поднялась фашистская авиация. Ребята уткнутся, где бы ни пришлось, и спят. А я на связи с начальником эшелона. Сидишь, точно весь на взводе, а помыслы об одном — как бы скорее да подальше уехать из опасной прифронтовой полосы. И кажется, что не поезд катится сам по себе, а ты его толкаешь вперед всем своим существом. Не всегда удавалось вырваться без помех. Случалось, враз адски заскрежещут тормоза, и состав вот‑вот вскоробится от стыка платформ. И тебя тоже засуводит и залихорадит. До сообщения начальника догадываешься о причине вынужденной остановки: путь поврежден немецким парашютистом, который тоже воровски усердствовал всю ночь. Начну расталкивать ребят, а они так уломались, что со сна никак не могут прийти в себя. Тогда гаркнешь в сердцах: «Подъем, еж в карман! На аварию!» Моментально вскочат от команды с «прицепом». Хорошо получалось, да «прицеп»‑то мне же прилепился прозвищем. Только и слышу в вольной обстановке: «Еж в кармане идет». Или: «Еж в карман, плесни чайку». Хотелось обрезать: «Я вам не еж в карман, а старший сержант Бурманов!» Да вспомнил наказ матери от детской поры: не выказывать досады, когда обзывают, иначе прозвище укоренится на всю жизнь. Отвадился выражаться с «прицепом» — вскоре и дразнить им перестали». Секлетея наподхват высказалась о том же: «И я, Захар Капитоныч, точно так же избавилась от прозвища Богомолка. Ничего в нем обидного для меня, но бог упоминается всуе. Только и повлияла на языкастых самым сердечным обращением». Мне вспомнилось, как не понравилось сперва дояркам и пастуху, когда я назначил ее заведовать фермой. И поинтересовался: «А вы, Секлетея Ивановна, не жалеете, что ушли с фермы? Чай, здесь не хуже?» — «Пожалуй, — призналась она. — Но я до сих пор на привязи у фермы‑то. Случись неладное с какой коровой — доярки ко мне, а не к Рутилевскому: он в Ильинском, а я рядом». — «Кто этот Рутилевский?» — «Зоотехник на все колхозы сельсовета. На брони продержался у нас в войну как специалист по искусственному осеменению. Быки‑то не паслись в стаде: из ярма не вылезали. Наш Сократ только нынче летом свет увидел да поправился, благодаря тому что в прошлом году вспашка в колхозе проводилась трактором». — «А вы, — полюбопытствовал, — что же… набрались опыта до уровня зоотехника?» — «Да хоть не до уровня, а много прочитала по уходу за скотом и кое‑что маракую». Представляете какая! — знаменательно воскликнул старик. — Сколько горечи ни хлебнула через тяжкие утраты за войну, а не пала духом и даже тверже поднялась на ноги.
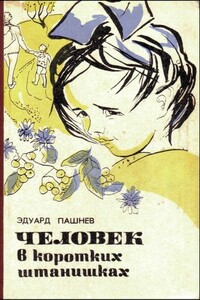
«… Это было удивительно. Маленькая девочка лежала в кроватке, морщила бессмысленно нос, беспорядочно двигала руками и ногами, даже плакать как следует еще не умела, а в мире уже произошли такие изменения. Увеличилось население земного шара, моя жена Ольга стала тетей Олей, я – дядей, моя мама, Валентина Михайловна, – бабушкой, а бабушка Наташа – прабабушкой. Это было в самом деле похоже на присвоение каждому из нас очередного человеческого звания.Виновница всей перестановки моя сестра Рита, ставшая мамой Ритой, снисходительно слушала наши разговоры и то и дело скрывалась в соседней комнате, чтобы посмотреть на дочь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
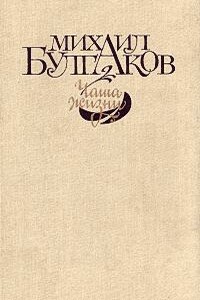
Глав-полит-богослужение. Опубликовано: Гудок. 1924. 24 июля, под псевдонимом «М. Б.» Ошибочно републиковано в сборнике: Катаев. В. Горох в стенку. М.: Сов. писатель. 1963. Републиковано в сб.: Булгаков М. Записки на манжетах. М.: Правда, 1988. (Б-ка «Огонек», № 7). Печатается по тексту «Гудка».

Эту быль, похожую на легенду, нам рассказал осенью 1944 года восьмидесятилетний Яков Брыня, житель белорусской деревни Головенчицы, что близ Гродно. Возможно, и не все сохранила его память — чересчур уж много лиха выпало на седую голову: фашисты насмерть засекли жену — старуха не выдала партизанские тропы, — угнали на каторгу дочь, спалили дом, и сам он поранен — правая рука висит плетью. Но, глядя на его испещренное глубокими морщинами лицо, в глаза его, все еще ясные и мудрые, каждый из нас чувствовал: ничто не сломило гордого человека.

СОДЕРЖАНИЕШадринский гусьНеобыкновенное возвышение Саввы СобакинаПсиноголовый ХристофорКаверзаБольшой конфузМедвежья историяРассказы о Суворове:Высочайшая наградаВ крепости НейшлотеНаказанный щегольСибирские помпадуры:Его превосходительство тобольский губернаторНеобыкновенные иркутские истории«Батюшка Денис»О сибирском помещике и крепостной любвиО борзой и крепостном мальчуганеО том, как одна княгиня держала в клетке парикмахера, и о свободе человеческой личностиРассказ о первом русском золотоискателе.