На великом стоянии [сборник] - [16]
11
Ранение старика, обезобразившее ему спину, так повлияло на Лысухина, что он проникся к пострадавшему глубоким уважением и уже не осмеливался теперь пресекать по своей прихоти его подробный рассказ про службу на Дальнем Востоке. Лишь учтиво спросил:
— Не до конца ли войны оставались там?
— Оттуда и демобилизовался. Перед тем как после капитуляции фашистской Германии необходимо было покончить с войной и в Азии, у нас в гарнизоне накануне его выступления проводился строгий медицинский осмотр. Меня опять, как я ни просился, не допустили в боевую часть любого рода войск, оставили дослуживать тут же, в береговой охране. Так я за войну и не побывал за границей ни на Западе, ни на Востоке. Вернулся домой без всякого памятного сувенира.
— А на спине‑то чем не сувенир? — шутливо съязвил Лысухин.
— Верно, — безобидно согласился старик. — Ни износить, ни расколоть его до гробовой доски.
— Вашим деревенским известно было, что вас так ранили?
— Жене сообщили еще до того, как я очутился в госпитале. А показаться‑то им пришлось в тот же день, когда вернулся домой и пошел на Сутяги к могиле покойницы. Бабы на картофельнике хоть и заметили меня, но мне сдалось, что не признали: все‑таки я был далеконько от них. А сунулся с поля в лес — такое мне бросилось в глаза, что и думать забыл о них. До войны Сутяги‑то кругом охватывал лес, а тут не успел я войти в него, как он сразу оборвался. Впереди и по обеим сторонам от меня открылась большая вырубка. Я недолго недоумевал, глядя на нее: вспомнилось первое письмо Марфы, присланное мне, когда я стал служить на Дальнем Востоке. Она жаловалась в том письме, что бьется с дровами, которые всем деревенским приходится таскать на себе по слеге да куртяжу из‑под Сутяг: конское‑то поголовье год за годом сдавали на нужды фронта. От двадцати лошадей осталось в колхозе только три забракованных животины. На Помпее возили воду да корма на ферму. Чемберлена умотала каждодневные дороги при всяких поставках — уж кнута не чувствовал. А жеребая кобыла Клеопатра скинула с надсады при вспашке зяби и совсем обезножела. Никогда у нас рогатый скот не знал упряжки, но бабам поневоле пришлось охомутать быка Сократа. Куда уж буен был он, но сразу покорился, как потянули его вдоль борозды за железное кольцо, продетое в ноздри. За четыре дня ударной работы он так запал боками, что стало видно, как под кожей каждое ребро волной переливалось от натуги, а дых на все лады сипел гармошкой. Выбьется из сил, тут бабы сами впрягутся в плуг, а его отведут на ферму, чтобы отлежался за ночь. «Начнем вечернюю дойку, — писала Марфа, — иной корове не стоится спокойно, помыкивает да воротит голову в ту сторону, где в угловом стойле бык лежа ел клевер. Пристрожишь бедняжку: «Не пяль глаза! Не видишь, что снята там со столба табличка?» Это Марфа‑то про дощечку, надпись на которой гласила про Сократа: «Производитель».
— Почему же сняли табличку‑то? — смеясь спросил Лысухин.
— Не потому, что не соответствовала, а совестно было перед Сократом. Тогда в тылу‑то люди и скот одинаково мытарились от трудностей. Оно и получалось иногда, что тяжкое с забавным схлестывалось об руку. — Старик вздохнул и продолжал: — Все, прочитанное в Марфином письме два уж года назад, заново возникло у меня в памяти, когда я остановился на минуту перед вырубкой и оглядывал ее. Она сплошь заросла иван‑чаем, который первее малинника и древесного молодняка появляется на гарях да на свежих местах после пилы и топора. Этот лесной травостой таким тут вымахал, что в нем не видно было ни пней, ни лому после валки. Но уж посекся от увядания. Лиственность‑то серой ветошью повисла вдоль стеблей, а стручки с иголку кедра почернели, скрючились и лопнули. Пух с семечками мельче маку обволок их и ждал только ветра. Он мошками взроился надо мной, как только я шагнул и задел собой первые стебли. Исчихался от него, пока лез скрозь заросли. И весь опеленался паутиной. Она катышами свертывалась под ладонями, когда я выбрался на Сутяги и стал освобождаться от нее. Кладбище оставалось таким же заглохшим и сиротским, каким было всегда в этом чахлом лесном закутье. Уцелевших крестов — по пальцам сосчитать, да и могил, заметных глазу, было негусто. В широких прогалах между ними даже не угадывалось в траве вспучин на местах родительских погребений: время все тут затоптало вровень. При солнечном застое и кроткой тишине меня от печальных дум на родном погосте вроде дремно оморочило. Хоть не шевельнуться. А из кустов синичка‑пухлячок тоскливо посвистывала мне в упрежденье об усопших: «Цы‑и‑иц, спят, спят!» Поочухался я все‑таки оттого, что так растрогался на этом нерасторжимом прибежище всех нас и стал распознавать по крестам, где тут положена Марфа. Похоронили ее в феврале, а в конце марта сестра Анна отписала мне, что привезла на санках по насту из Дорофеева на Сутяги сделанный ее свекром крест, который она едва поставила на могиле: так‑де руки отбила ломом, обкалывая мерзлую землю, что после уж кое‑как написала на кресте чернильным карандашом имя покойницы. Первой приметой мне и должен был оставаться тут крест из нового дерева. А хвать‑похвать, такого не оказалось: все темные от давности. Только два, выкрашенные охрой, стояли позади других и приятно выделялись. К ним меня и потянуло без всякого домысла, наобум. Ближний, к которому я подошел, был невысок и перекрыт с верхушки на оба конца главной поперечины широкими дощечками, чтобы скатывался дождь. На срезанной под коньком иконке черного письма, принятого у староверов, различались только венчики вокруг головы богородицы и младенца. На железке с листок тетрадки, приколоченной к кресту, я прочитал мелкую, по‑печатному выведенную надпись: «Храните, горни ангелы, покой рабы божией Веры Аверкиной, предсташа оная во младенчестве!» «Значит, девочка Секлетеи тут», — схватился я догадкой, глядя на ладную, как пряник, отделанную могилку. Она была обмазана по сторонам вокруг глиной с толченым кирпичом, а сверху поросла и казалась покрытой зеленым ковриком с теми яркими цветочками на нем, что называются ноготками. Они светились в траве, точно с совка насыпанные горячие уголечки. Я вчуже ранился жалостью к матери, видать, все еще неослабно страдавшей по своей умершей крошке, и обернулся к другому, одинаково выкрашенному кресту, что стоял направо, шагах в пятнадцати от меня. У подножья он был круглым, с на полметра от земли уцелевшей корой на нем, отчего казался не вкопанным, а сделанным на месте из тут же выросшей ели: дерево спилили, пень в два моих роста обтесали как смогли, врезали в него поперечину — и торчи тут, сколько потерпит время. В тоскливых помыслах о равной участи этого надгробного стража и нашей доле я вплотную подошел к могиле. Она была исправно поднята и подрезана заступом. Ее пока обметал одни пырей — впроредь травинка от травинки. Поднял опять глаза на крест да так и пригвоздился взглядом к надписи на его поперечине: в первом же, точно напечатанном слове сразу признал руку Секлетеи, прежде чем прочитал все остальное: «Бурмакова Марфа Григорьевна. Жития ее 43». Не так я тронулся сердцем, оттого что невзначай очутился у могилы жены, как растерялся от неожиданности этого. И ни о ней, ни о покойнице, был охвачен думами, снова и снова перечитывая надпись, а о Секлетее: «С чего она порадела умершей, навела такой обиход на ее последнем прибежище? Может, потому, что работала вместе с ней на ферме и, как верующая, сочла угодным делом почтить память? Иначе зачем? Неужели с корыстным умыслом, чтобы услыхать похвалу от людей? А не вернее ли то, что, поскольку меня и ее постигла за войну одинаково тяжкая участь, ей пришло на ум и меня не обойти участием: пусть, дескать, порядок на могиле будет в отраду ему?..» Получалось вроде наваждения: вместо того чтобы отдаться горю, я стоял, сбитый с толку догадками, которые лезли мне в голову, как досужему при разборке кроссворда. Надо бы Марфу памятью‑то вызывать, а мне представлялась Секлетея.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли рассказы о встречах с людьми искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс. Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским, Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами автор вспоминает самые разные жизненные истории. В одном из них мы знакомимся с приехавшим в послереволюционный Киев деловым американцем, в другом после двадцатилетней разлуки вместе с автором встречаемся с одним из героев его известной повести «В окопах Сталинграда». С доверительной, иногда проникнутой мягким юмором интонацией автор пишет о действительно живших и живущих людях, знаменитых и не знаменитых, и о себе.
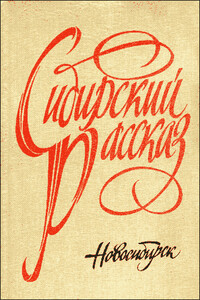
В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афонина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они привносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.

Во второй том вошли рассказы и повести о скромных и мужественных людях, неразрывно связавших свою жизнь с морем.

В третий том вошли произведения, написанные в 1927–1936 гг.: «Живая вода», «Старый полоз», «Верховод», «Гриф и Граф», «Мелкий собственник», «Сливы, вишни, черешни» и др.Художник П. Пинкисевич.http://ruslit.traumlibrary.net.