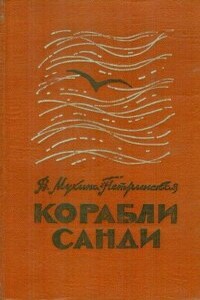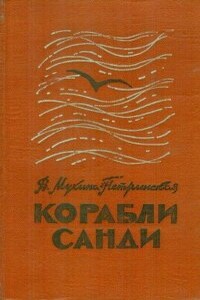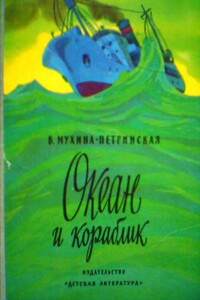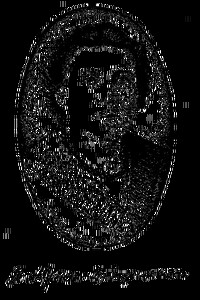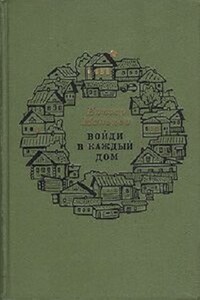Увидев книги, я, как всегда, забыл обо всем остальном. Вот от кого я унаследовал любовь к чтению — от отца. Стеллаж занимает всю стену от пола до потолка. Не по случаю были куплены эти книги, а любовно подобраны. Полное собрание сочинений Мамина-Сибиряка издания 1916 года, приложение к «Ниве». Интересно, где отец достал его? От букиниста здесь еще были сочинения Леонида Андреева, Ивана Бунина, какого-то Мережковского. На другой полке Пришвин, Паустовский, Леонов, Федин, Куприн, Достоевский. Я пожалел, что нет моих любимых Стивенсона и Уэллса.
Отдельно стопочкой лежало несколько любовно обернутых в прозрачную бумагу томиков. С интересом развернул я их, почему-то подумав, что обязательно увижу "Судьбу человека" Шолохова и стихи Твардовского. Так и оказалось.
На нижних полках лежали аккуратно сложенные пачка «Известий» и журналы "Новый мир", «Природа».
Выбрав несколько журналов, я сел на топчан и задумался, но мысли путались, начинала болеть голова. Сказывались дорожная усталость, бессонная ночь, тревога и нервное напряжение. Мне захотелось прилечь. Едва коснулась голова подушки, — я заснул крепчайшим сном.
Проснулся от звука шагов… кто-то тяжелый осторожно передвигался по комнате. Я сразу все вспомнил и вскочил с топчана — заспанный, с всклокоченными волосами. На меня молча и растерян-316
но смотрел, опустив руки, могучего телосложения человек. В один миг я охватил взглядом и эти широкие плечи, и густые русые волосы, и светло-серые глаза, и уже совсем русский нос «картошкой», и то, как человек этот был одет — рабочие брюки и джемпер, и даже увидел, какие башмаки на нем. Это был мой отец, и больше он никем не мог быть, как моим отцом. И я первый шагнул к нему, чтоб обнять…
Долго мы говорили с ним в этот день, узнавая друг друга. Я отдал ему подарки, купленные в Москве: электрическую бритву, трубку, табак, несколько галстуков. Отец усмехнулся, шутливо почесав затылок, из чего я заключил, что попал со своими подарками "пальцем в небо".
— Сам-то ты куришь? — спросил он меня.
— Нет.
— Вот и я некурящий.
Мы посмеялись. Заметив мое огорчение, отец сказал:
— Табак и трубку ты лучше подари Сергею Николаевичу. Он будет рад. А вот с бритвой я не расстанусь… Разве сбрить бороду?
— Ну, такая борода! Жалко. Мы опять посмеялись.
— Сбрею, — решил он.
Мы пили чай. Отец больше рассказывал про гидрострой, а я почему-то про детдом. Конечно, объяснил, как получилось с его письмом, как мне его не передали.
— Какое у тебя образование? — поинтересовался отец. И был очень доволен, что я закончил десятилетку.
— Вечернюю… при мостоотряде, — пояснил я.
— Тем более.
— А у тебя, папа, какое образование? — спросил я и тут же раскаялся, зачем спросил. Никакого это значения не имеет, когда отец так начитан.
— И я окончил десятилетку. Тут, на гидрострое. Уговаривали поступить в педагогический… Учителей у нас не хватает.
— Ну и что ж ты?
— Не пошел… Не всякая мать захочет, чтоб я учил ее ребенка. Да и мне совесть не позволит.
— Но ты уже искупил все!
Отец посмотрел мне в глаза. Я невольно отвел взгляд. Он вздохнул.
— Видишь ли, Миша… Единственное преступление, которое нельзя ни искупить, ни загладить, ни заплатить за него даже всей жизнью, — это как раз убийство. Потому что человека, которого убили, к жизни не вернешь. И прощено оно уже быть не может, потому что тот единственный, кто имел бы право простить, уже не существует.
Надо же этому случиться! Если что несвойственно моему характеру, душе моей, так это насилие над человеком! Ты скажешь, как же ты мог? Все наделала война. Пойми меня правильно, сын… Я не хочу списать преступление за счет войны. Я только объясню, как это могло случиться со мной! Четыре года я убивал врагов… Нет, Я не ожесточился и не озверел. Как никогда прежде, любил я русскую землю, народ свой, товарищей, каждого ребенка, каждое деревцо в России, сломанное войной. И тем яростнее ненавидел тех, кто принес кровь, пожар, насилие, гибель, надругательство. Когда война, не может быть иначе. Я убил тысячи врагов, ведь я служил в артиллерии. Слышал про «катюши»? А вернувшись домой, еще не сняв шинель, пахнущую дымом и кровью, я убил жену за то, что она… с врагом…
Я не хотел этого… но так случилось. А теперь я хочу только одного. Чтоб никогда больше не было войны! Чтоб тебе и сверстникам твоим не довелось этого испытать.
Отец вышел из-за стола, на котором остывал чай, и тяжело прошелся по комнате.
— Ольга, твоя мать, не была ни врагом, ни предательницей. Она было только слабая женщина… Может быть, легкомысленная. Друзья пытались меня потом утешить, говорили, что Ольгу следовало бы все равно за эту связь судить. Не знаю. Никто ее не судил. Даже я… Это было исполнением приговора без самого приговора. Но я никогда не прощу себе этого… Только она одна могла простить…
Я понял, как он казнил себя долгие-долгие годы.
— Папа! — взмолился я. — Не надо об этом!
— Давай, сыночек, не надо. — Он постарался улыбнуться.