На руинах нового - [10]
«Непристойность» – очень важное для нас здесь слово. У Эдуарда Гиббона Римская империя приходит в упадок и разрушается подобно старому утесу, возвышающемуся над морем. С течением времени он дает трещины, слабеет изнутри, его истачивают ветер и морская соль; утес падает, оставляя на берегу гигантские камни. Это благородная, величественная, несмотря на множество мелких неприглядных деталей, закономерная катастрофа, почти геологическая. У Томаса Манна одержимая материальным совершенством современность есть не что иное, как декаданс, окончательно разорвавший дух и тело, чистая, стопроцентная, без примесей, болезнь: тело находится в возбужденном поиске наслаждений и – одновременно – гниет, а сатанинский дух[16] мечется, смущает больных, заставляет их потерять последние остатки пристойности. Одни свистят пневмотораксом, другие объедаются, но главная непристойность Волшебной горы – немыслимая при других обстоятельствах, невозможная «внизу», «на равнине» одержимость сексом. Только стойкий солдатик Цимсен смог противостоять всеобщей разнузданности и до самой своей героической смерти сохранить высокие стандарты внутренней дисциплины.
Если «современность» в «Волшебной горе» равняется «декадансу», равняется «болезни», то неплохо бы выяснить, откуда эта болезнь взялась. Ведь еще за 50–150 лет до того западный мир был вроде бы здоров, мир деда Ганса, сенатора Ганса Лоренца Касторпа, мир старого слуги Фите, мир серебряной купельной чаши и тарелки с выгравированной датой «1650», мир премодерности и ранней модерности. Значит, что-то его испортило, привнесло в него болезнь, заставило стать «современностью». Что же?
И здесь возникает, кажется, никем не замеченный историко-литературный сюжет. Ближе к середине в «Волшебной горе» появляется новый персонаж – разъездной страховой агент из Петербурга Антон Карлович Ферге. У этого пациента удивительная судьба: он умирал от чахотки, и Беренс решил применить к нему тот самый искусственный пневмоторакс, о котором шла речь. Операция чуть было не закончилась печально; от «шока плевры» Ферге впал в глубокий обморок, и манипуляции с его внутренностями пришлось прекратить до следующего раза. Одно из самых сильных мест романа – рассказ несчастного страхового агента о том, как доктор тупым инструментом «щупал ему плевру» (1, 365): Ферге все чувствовал, так как операцию ему делали без наркоза – из-за непереносимости. Отметим еще одну деталь этого неудачного хирургического вмешательства. Ферге теряет сознание не от боли, а от чувства, что кто-то бесцеремонно трогает плевру, нечто запретное, спрятанное в его теле, грубо нарушает табу: «И мне, господа, стало дурно. Отвратительно, господа, я никогда не думал, что может у человека возникнуть такое трижды подлое, гнусное, унизительное чувство, какого на земле вообще не бывает – разве что в аду» (1, 365). У Ферге случаются сразу три обморока: «зеленый, коричневый и фиолетовый», в забытьи он слышит «заливистый, непристойный, гадкий смех». Иными словами: кто-то грубо лезет Антону Карловичу Ферге в душу, щекочет[17] ее, больному кажется, что он попал в ад, что «воняет сероводородом»; как и положено в аду европейского типа, мука не столько от боли, сколько от смеси унижения и непристойности.
Здесь невозможно не вспомнить еще одного специалиста по страховому делу, который описывал земной ад как место, где царят непристойность, двусмысленное глумление, издевка. Это, конечно, Франц Кафка. Он, как и Ферге, был страховщиком, у него тоже был туберкулез (но, в отличие от манновского героя, Кафка умер от болезни), его тоже мучили чудовищные видения, и он тоже не переносил наркозов: только Ферге отказался от эфира, а Кафка – от алкоголя, кофеина и никотина. Сравнение это нисколько не натянутое, если вспомнить, как в прозе – и особенно дневниках – Кафки описываются схожие ситуации, нелепые, чудовищные, связанные с нарушением табу, с комично-страшными трансформациями тела и разнообразными манипуляциями с ним. Более того, многие такого рода ситуации и сюжеты Франца Кафки имеют отправной точкой материализацию метафоры, прямое материальное исполнение того, о чем говорится в переносном смысле. Скажем, в «Исправительной колонии» приговор выкалывается и вырезается на теле осужденного: скрижаль закона входит в плоть и кровь железными зубьями бороны. В истории с операцией Ферге кто-то физически, руками и инструментами, лезет к нему в душу. После этого страховой агент Антон Карлович Ферге не может говорить ни о чем, кроме как об опыте «шока плевры», – как и страховой агент Франц Кафка рассказывал все время одну и ту же историю, которую при одних обстоятельствах можно назвать «Процессом», а при других «Приговором».

В своей новой книге Кирилл Кобрин анализирует сознание российского общества и российской власти через четверть века после распада СССР. Главным героем эссе, собранных под этой обложкой, является «история». Во-первых, собственно история России последних 25 лет. Во-вторых, история как чуть ли не главная тема общественной дискуссии в России, причина болезненной одержимости прошлым, прежде всего советским. В-третьих, в книге рассказываются многочисленные «истории» из жизни страны, случаи, привлекшие внимание общества.

Книга К.Р. Кобрина «Средние века: очерки о границах, идентичности и рефлексии», открывает малую серию по медиевистике (series minor). Книга посвящена нескольким связанным между собой темам: новым подходам к политической истории, формированию региональной идентичности в Средние века (и месту в этом процессе политической мифологии), а также истории медиевистики XX века в политико-культурном контексте современности. Автор анализирует политико-мифологические сюжеты из средневекового валлийского эпоса «Мабиногион», сочинений Гальфрида Монмутского.

Книга Кирилла Кобрина — о Европе, которой уже нет. О Европе — как типе сознания и судьбе. Автор, называющий себя «последним европейцем», бросает прощальный взгляд на родной ему мир людей, населявших советские города, британские библиотеки, голландские бары. Этот взгляд полон благодарности. Здесь представлена исключительно невымышленная проза, проза без вранья, нон-фикшн. Вошедшие в книгу тексты публиковались последние 10 лет в журналах «Октябрь», «Лотос», «Урал» и других.

Истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне — энциклопедия жизни времен королевы Виктории, эпохи героического капитализма и триумфа британского колониализма. Автор провел тщательный историко-культурный анализ нескольких случаев из практики Шерлока Холмса — и поделился результатами. Эта книга о том, как в мире вокруг Бейкер-стрит, 221-b относились к деньгам, труду, другим народам, политике; а еще о викторианском феминизме и дендизме. И о том, что мы, в каком-то смысле, до сих пор живем внутри «холмсианы».
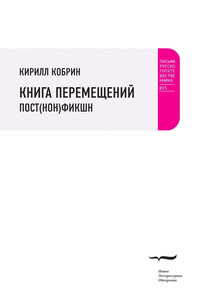
Перемещения из одной географической точки в другую. Перемещения из настоящего в прошлое (и назад). Перемещения между этим миром и тем. Кирилл Кобрин передвигается по улицам Праги, Нижнего Новгорода, Дублина, Лондона, Лиссабона, между шестым веком нашей эры и двадцать первым, следуя прихотливыми психогеографическими и мнемоническими маршрутами. Проза исключительно меланхолическая; однако в финале автор сообщает читателю нечто бодро-революционное.

Книга состоит из 100 рецензий, печатавшихся в 1999-2002 годах в постоянной рубрике «Книжная полка Кирилла Кобрина» журнала «Новый мир». Автор считает эти тексты лирическим дневником, своего рода новыми «записками у изголовья», героями которых стали не люди, а книги. Быть может, это даже «роман», но роман, организованный по формальному признаку («шкаф» равен десяти «полкам» по десять книг на каждой); роман, который можно читать с любого места.

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.

На знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа упокоились священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы-балерины, великие князья и террористы, художники и белые генералы, прославленные герои войн и агенты ГПУ, фрейлины двора и портнихи, звезды кино и режиссеры театра, бывшие закадычные друзья и смертельные враги… Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев… Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века.
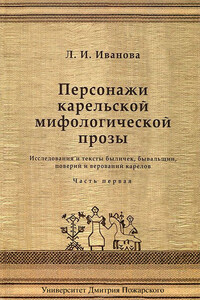
Данная книга является первым комплексным научным исследованием в области карельской мифологии. На основе мифологических рассказов и верований, а так же заговоров, эпических песен, паремий и других фольклорных жанров, комплексно представлена картина архаичного мировосприятия карелов. Рассматриваются образы Кегри, Сюндю и Крещенской бабы, персонажей, связанных с календарной обрядностью. Анализируется мифологическая проза о духах-хозяевах двух природных стихий – леса и воды и некоторые обряды, связанные с ними.

Эта книга – воспоминания знаменитого французского дизайнера Эльзы Скиапарелли. Имя ее прозвучало на весь мир, ознаменовав целую эпоху в моде. Полная приключений жизнь Скиап, как она себя называла, вплетается в историю высокой моды, в ее творчестве соединились классицизм, эксцентричность и остроумие. Каждая ее коллекция производила сенсацию, для нее не существовало ничего невозможного. Она первая создала бутик и заложила основы того, что в будущем будет именоваться prèt-á-porter. Эта книга – такое же творение Эльзы, как и ее модели, – отмечена знаком «Скиап», как все, что она делала.

Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».

Выдающийся деятель советского театра Б. А. Покровский рассказывает на страницах книги об особенностях профессии режиссера в оперном театре, об известных мастерах оперной сцены. Автор делится раздумьями о развитии искусства музыкального театра, о принципах новаторства на оперной сцене, о самой природе творчества в оперном театре.