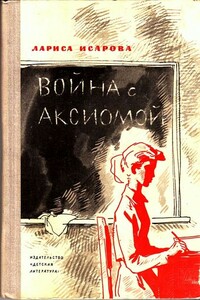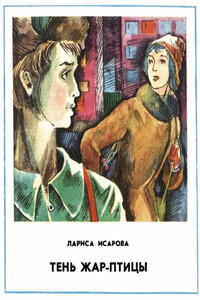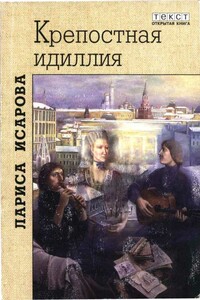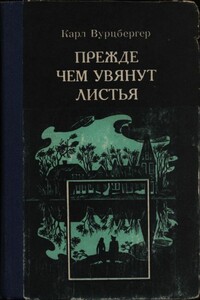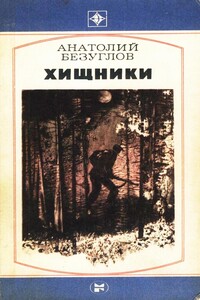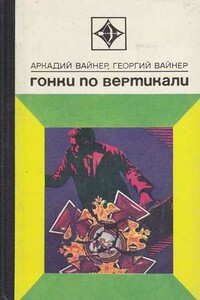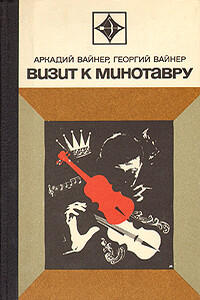— «Безумству храбрых поем мы песню!» — сказала я.
— Я буду счастливой! — воскликнула Антонина, на секунду даже меня заразив верой. — А вдруг?! Я не создана для жизни с положительным героем, я сумею быть и снисходительной и сильной, вот увидите!
— Понимаешь, амазонок даже обожествляли, но не обожали: любят кротких, ласковых женщин, а ты так решительна и категорична…
Я замолчала, потому что в комнату вошел выбритый, вымытый до блеска Митя. Даже брюки погладил. В руках был чемодан. Я вдруг вспомнила холод, сжавший мне сердце, когда Моторин рассказал о смерти Ланщикова. Он тогда улыбнулся. Непроизвольно, точно извиняясь, что меня тревожит…
Глинская встала.
— Ну всех благ вам!
Потом добавила:
— Ланщиков собирался пойти с повинной…
— С чего ты взяла?
— Он несколько раз ко мне на работу приезжал.
— Почему ты мне ничего не рассказывала? — подал голос Митя.
— Лучше маленькая ложь, чем большое горе! — заявила Антошка. — Ты бы стал психовать. А он был такой жалкий, все ныл, что Лужина его до какого-то старичка не допускает, потомка исторического.
— Разве он жив? — сорвалось у меня.
— Конечно, Ланщиков даже хотел в милицию заявить, что они с Лисицей его обобрали, что к их рукам исторические ценности прилипли.
— Трепло! — буркнул Митя. — Из-за этого и погиб, Лисицын ему не спустил такой болтовни.
— Стрепетову ты не сказала?
— Всему свое время.
И тут Митя поклонился ей в пояс и сказал странно дурашливо:
— Будя, царевна Несмеяна! Нечего меня пестовать, иди к своему Барсу и его Барсенку…
Антонина опешила.
— Непутевых в девятнадцатом веке спасали, как ты хотела, а теперь на тебя пальцами начнут показывать…
Митя галантно подал ей пальто.
Антонина так растерялась, что молча посмотрела на него и пошла к двери, как во сне…
Митя вздохнул, вытащил сигарету и смял ее в руке.
— Женился бы, как бычок на веревочке, и две жизни поломал…
— Так ты любил ее? — не выдержала я.
Митя усмехнулся, устало и горько.
— Наверное. Но с Антониной нельзя семью строить.
Он смотрел на дверь, которую закрыла за собой беззвучно Глинская, и мне казалось, что с трудом сдерживается, чтобы не броситься вдогонку.
— И командовать слишком любит, а мужчина в семье сам должен все решать… Вот Барсов ей — в самый раз, добрый, ленивый, хоть и эгоист, но на все согласится, чтоб его от жизненных забот освободили…
Митя смотрел на меня снисходительно, точно он был старше. Ничего не оставалось от взрывчатого мальчика, который бросался в любую драку при виде несправедливости, защищая слабого…
В черно-белой кухне Лужиной я увидела Виталия Павловича. Он сидел сгорбившись. Разговор, видимо, шел давний и нелегкий, но он не собирался его прерывать даже при мне.
Детских голосов в квартире не слышалось, только Лужина ходила, как пантера, из угла в угол, тяжело переваливаясь на отечных ногах. Вид у нее был ужасный. Без косметики, неряшлива, стоптанные тапочки, халат в пятнах. Но по глазам Виталия Павловича я видела, что для него она все та же красавица, которая блистала в антикварном магазине.
— Простите, — сказала я, — меня интересует хозяин вышивки, которую ты передала Серегиной…
— Она очень ценная?
Голос Лужиной стал гуще и ниже. Господи, неужели ей мало всего, что она натаскала в эту квартиру?!
— Для истории.
— А Серегина ведь мне ни копейки не заплатила, все на болезни жаловалась.
Виталий Павлович прятал глаза.
— Где твой муж? — спросила я из вежливости.
И тут Лужина зарыдала.
— Ушел он, — тихо пояснил Виталий Павлович. — И детей забрал, представляешь?
Он ждал, наверное, от меня сочувствия, но мои симпатии были на стороне ее странного мужа. Кого она могла воспитать, эта спаленная жадностью душа?
— Теперь, когда тебе плохо, разведусь! Тебе нельзя в таком состоянии оставаться одной… — продолжал он спокойно и решительно… — Я поживу тут, пригожусь.
Улыбка у него была мягкая, просительная, ироническая, Лужина подошла, погладила его по крашеным волосам и сказала удивленно:
— Неужто прощаешь? А я ведь тебя в такие дела втравила!
— Я люблю тебя, это уж со мной так и останется до смерти.
Они говорили, точно забыв обо мне, потом Лужина ушла, и он пояснил:
— Мы ведь и себя не знаем, нам ли судить других… К сожалению, жизнь не имеет черновиков, дублей, как в кино, все набело, навсегда, не вычеркнуть, не стереть… Пока ее не потерял, не представлял, что она для меня, думал — игрушка, одна из многих…
Лужина вернулась умытая, причесанная, в ярком платье для беременных, обшитом кружевами.
— Пишите… — Тон Лужиной был жесткий, она злилась на себя за свое бескорыстие. — Пятидесятая больница, мужская хирургия, пятая палата… Сабуров…
— Он в сознании?
Она скривила губы.
— Как для кого. Вот год назад пришел со мной в Останкино, показать хотел одну картину. Подошли к двери, я его вперед пропускаю, как старика, а он передо мной дверь распахнул:
— Нет, нет, вы дама, прошу, и потом я тут в некотором роде из хозяев…
Мы помолчали, Лужина прицельно следила за моей реакцией, о Виталии Павловиче она забыла и даже вздрогнула, когда он заговорил:
— Во всем я виноват, развратил ее, втянул в эту среду, мне и отвечать… Понимаешь, не верю, что она — пустышка, никто еще не достучался до ее сердца, а оно ведь есть, и такое ласковое…