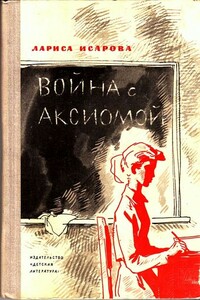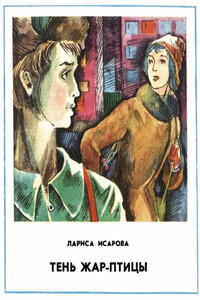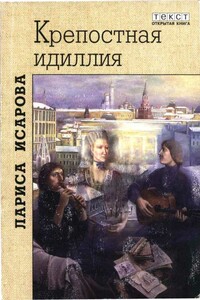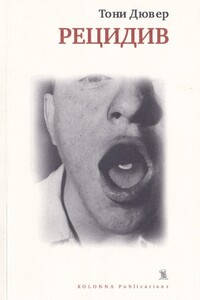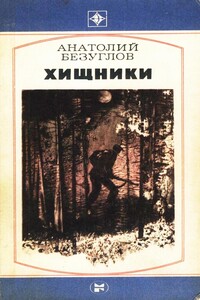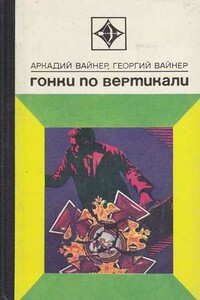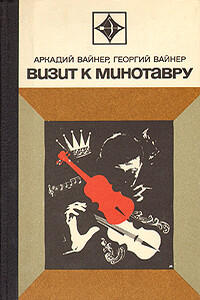Он улыбнулся ей.
— Ты проходишь по делу Лисицына как свидетельница?
— Нет, пытаются ее объявить соучастницей. Но у меня есть такие адвокаты, — его голос звучал не очень уверенно, — и разве не должны они учитывать, что женщина на последних месяцах беременности…
Лужина растерянно улыбалась, ее явно терзал страх, кажется, только сейчас она начинала понимать, как запутала и осложнила свою жизнь.
И вот я в больнице. Палата на четверых. Салатные стены, белые окна, двери, потолки. Койка в углу, возле окна, где светлее. На тумбочке — тетрадь, графин с клюквенным морсом, мензурка с одной гвоздикой. Роскошной, сиреневато-розовой, а зубчики белые, точно кружевная оборка. Лицом ко мне лежал старый человек, костлявый, почти высохший, с густыми желто-белыми волосами. Губы запали, длинный острый нос, красноватые веки. Подбородок разделен ямочкой, похожей на шрам. Он не спал и смотрел на меня в упор тяжелым остановившимся взглядом, в котором ничего не было — ни интереса, ни внимания, ни раздражения.
Я подсела, сослалась на Лужину. Глаза его потеплели, осветились, стали ярко-серыми, водянистость исчезла.
— А, Викочка, золотая девочка…
Иронизировал? Нет, не похоже.
— Знали бы вы, сколько она со мной нянчилась! И врачей приводила, и сюда устроила на операцию. Такая бессребреница, за все сама платила…
Я растерялась. Помрачение сознания? Или есть другая Вика? Я не знала, как заговорить о вышивке.
— И так ей, бедной, не повезло, — все шелестел старик, облизывая сухие губы, — запутали, вот и мается…
Я решила перебить его:
— У Маруси Серегиной оказалась ваша вышивка…
— Серегина — парвеню, все хватала, копила, цапала, аморальная дама…
— А Лужина иная?
Он шевельнулся, попробовал привстать.
— Вы ее не трогайте, она вам всем не чета. Она добрая, только и сама об этом не знает. Понимаете, она выросла в семье, где никто никогда ничего даром не делал. Никому. А когда я ей подарил несколько гравюр, просто так, потому что понравились, — расплакалась.
Он вздохнул.
— Она впервые в жизни поняла, как важно что-то делать для другого, для себя важно. Так радовалась, когда могла проявить широту души… Кажется, ее никогда в жизни не любили просто так, бескорыстно…
Неужели он такой видит Лужину? Чудо человеческого заблуждения?
— А вот ваша Серегина ко мне привозила и спекулянтов, и нуворишей, даже иностранцев, когда я бывал не в себе, в минуту похмелья или запоя. Это благородно, достойно, по-людски?! И все что-то у меня тащили, скупали, хапали за бесценок… И воздалось ей по справедливости.
Я почувствовала, что он из тех людей, кто дарил доверие медленно, по капле, но то, что подарил, до гроба уже не отнимет…
— Я подписал завещание, оно у главврача хранится… Лужина — моя наследница… Свою вещь, наследственную, я имел право подарить кому хотел.
— Она об этом знает?
— Детям знать не положено. Когда найдут вышивку… ей вернут, хоть одна душа поминать будет…
Он закашлялся, на губах выступила розоватая пена, я позвала сестру, но он крикнул, чтоб я не уходила. Когда его успокоили, сделали укол, я снова подошла. Сейчас он выглядел лучше, чем раньше, кожа разгладилась, я поняла, что ему лет семьдесят.
— Так что вас интересует?
— Это вы жили в одной квартире с Шутиковыми?
— Да, много лет.
— Старшая девочка нашла во время ремонта одну тетрадь. О Параше Жемчуговой…
Слабая улыбка коснулась его лица.
— Матушка писала моя, восхищалась ею без меры с детства. И память имела сказочную, все семейные предания, легенды знала, со всеми родными связь поддерживала… Да и работала после революции в Ленинской библиотеке, ее устроили, потому что она кому-то из революционеров помогла бежать еще до империалистической. И деньги давала большевикам: она отличалась романтизмом…
Старик замолк, он уходил в воспоминания временами, как в туман.
— Тут один приходил из милиции, Стрепетов. Все спрашивал насчет вышивки Прасковьи Ивановны. Ее Парашей в нашей семье не принято было называть. Я сказал — бог дал, бог взял. Найдется, отдадите наследнице, по ее воле все будет…
Лицо его побагровело, и он торопился договорить:
— Жаль только, что в записках матери о сыне Прасковьи Ивановны не упомянуто о прадеде моем. Горе богатым сиротам. Его все обворовывали, пользовались добротой, многим он пенсии платил, много детей-сирот воспитывал на свой счет. Говорили, что он страдал «маниакальной благотворительностью…». И все блуждал один по огромному Фонтанному дому, последыш сильных, ярких характеров, родившийся бескрылым и бессловесным…
Я хотела встать, но он удержал, протянув вперед руку, переводя дыхание, медленно и осторожно, точно настраивал невидимый инструмент.
— Моя мать не жалела о прошлом, отринула его от ног своих. Радовалась цветку, забыв об оранжереях, дарила картины музеям, только в одном завидовала прадеду. Его любви к Параше и ее ответному чувству. Однажды мне сказала: «Да не забудутся их имена, посмевших наперекор веку любить и верить друг другу. Подняться над всеми предрассудками и остаться независимыми в своем чувстве…»
Новая пауза, тяжелое свистящее дыхание.
— Она не пожелала эмигрировать, говорила: «Мы — русские дворяне, не смеем быть безродными», и повторяла завещание Николая Петровича Шереметева: «И де же дух мой, ту да будут кости мои…» Она не понимала одного: все, что было с родом нашим, — воздаяние. За те тысячи беспамятных мужиков и баб, кто страдал по нашей вине, за их стоны и проклятья, за гениальных людей, бывших нашей собственностью, как Параша Жемчугова, Дегтерев, Аргунов, Батов, Васильев. И пусть я лично ни в чем не повинен, а несу крест за них, за всех предков — я, седьмое колено рода великого…