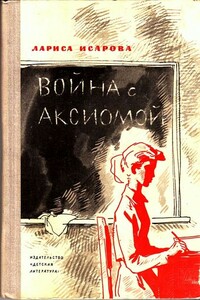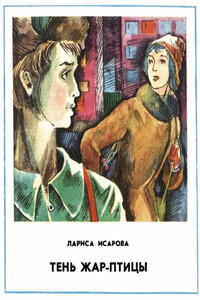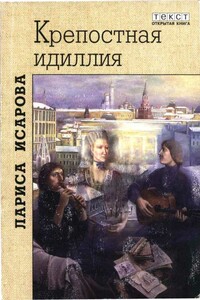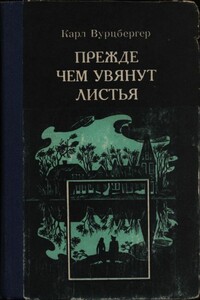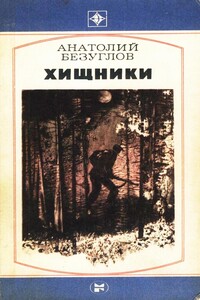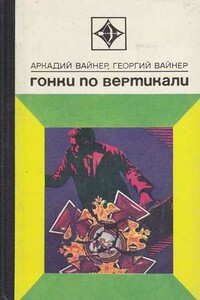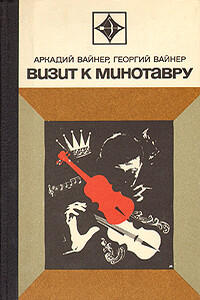«И остались мгновенья считанные…»
В то лето поступило графу огорчение от архитектора Миронова. Сын повара фельдмаршала Шереметева, его деда, с согласия барина учился в Московском университете, потом преподавал в школе Кускова, решив стать архитектором. Проекты его были не похожи на иноземные, граф отказался по ним переделывать Кусково, позволил Миронову только помогать «настоящему» мастеру. Миронов, человек самомнительный[10], осерчал, заупрямился, а как назвали Прасковью Ивановну «внукой польской» — решил проситься на волю, ссылаясь тоже на польское происхождение. Суеверия ради Шереметев повелел проверить его притязания по документам, когда же все оказалось сном и сказкой, пообещал его отпустить на волю после своей смерти. А дотоле приказал управляющему покричать на безумца, но телесно не наказывать, дать прибавку жалованья и вольную его сыну…
Параша не вмешивалась, щадила себя от ненужных волнений. Все равно помочь не могла. Его сиятельный лик стал бы далек и недоступен, он заговорил бы высоким голосом, в нос, точно с бывшей крепостной, а не женой… Но и эта царапина легла на незаживавшие раны памяти, только мысленно просила она прощения у несчастливца…
Прослушав возмущение графа неблагодарностью Миронова, сказала, двигаясь все тише, осторожней:
— Ты добрый…
Но он не понял ее истинной интонации…
И вот свершилось! Прасковья Ивановна Шереметева, «урожденная Ковалевская», принесла графу наследника, богатыря орущего.
Граф боялся, что у него остановится сердце, пока шла суетня в покоях графини. Он ловил любой звук, самую малость, но Параша, в кровь искусав губы, не кричала. Она верила, что криком призовет к себе нечистую силу, а терпением — божье благословение и сочувствие богородицы, что родила дитя на благо людям…
Николай Петрович воспарил духом, представляя горе родственников, нацеленных на его наследство. Их чаяния растаяли, как туман от утреннего солнца. Но, боясь злобы и проклятий для сынка долгожданного, стал думать, чем кого наградить, чтоб подсластить горечь сей пилюли…
Он хотел бежать к своей несравненной графинюшке посоветоваться, он привык во всем на нее полагаться, добрую и щедрую, но доктора не возвеселили. А он уже поверил, что судьба повернула к нему лик благосклонный, что поправится скоро его соловушка и станет сыну напевать колыбельную…
А она горела, металась, тосковала, страстно моля показать сына. Врачи опасались родильной горячки, чахотки, и тогда Таня тайком принесла спеленутого ребенка, не переступая порога опочивальни. Дмитрий Николаевич морщил красное сонное личико и не открывал глаз под горячим горестным взглядом матери.
Через десять дней Прасковья Ивановна пожертвовала церкви драгоценную золотую цепь ценой в двенадцать тысяч, моля о выздоровлении. Фамильная была цепь, фельдмаршалу жалованная императором Петром Великим. Граф подарил Параше, когда она зачала…
Ничего не помогало. Считанных мгновений уже не оставалось.
Прасковья Ивановна Шереметева, умирая, просила в последние минуты Таню Шлыкову беречь дитя и мужа. Она подарила ей прядь своих волос, которую та до смерти носила в заветном кольце Параши.
Морозы стояли крещенские, граф обезумел от горя, дни и ночи диктуя множество писем — к императору, императрице, друзьям, родственникам. Почти одинаковый текст, менялось только обращение.
«Вы посочувствуете моей утрате», «во имя дружбы», «эта утрата очень чувствительна, так как я теряю в ней нежного друга, верную спутницу, которая всю жизнь посвятила тому, чтобы сделать меня счастливым…», «Вы прольете немало слез по той, которая не успела дать себя узнать, тем не менее испытывала к Вам симпатии после тех доказательств дружбы, которые Вы проявляли…»
И снова, что она была «нежная подруга, редкая супруга, верная спутница», и снова — о слезах, отчаянье, пустоте подступающей жизни.
На письме сестре он сделал приписку под рукой секретаря: «Пожалей обо мне. Истинно я вне себя. Потеря моя непомерная. Потерял достойнейшую жену… в покойной графине Прасковье Ивановне имел почтения достойную подругу и товарища. Кончу горестную речь…»
Единственному другу своему, Самарину, тоже добавил в письме: «Зная, как вы любили покойную жену мою, то долгом почитаю уведомить вас о совершенном моем несчастьи. Пожалейте, я истинно все потерял…»
Более сотни извещений, писем, посланий.
Но за гробом великой, хотя и почти не известной народу певицы шли только дворовые и архитектор Кваренги. Сам граф не попал на похороны и панихиду, лежал в бесчувствии.
В церкви святого Лазаря в лавре он приказал сделать такую надпись:
«Здесь предано земле тело графини Прасковьи Ивановны Шереметевой, рожденной от фамилии польских шляхтичей Ковалевских. Родилась 1768-го июня 20-го, в супружество вступила в 1801-м ноября 6-го в Москве, скончалась в Петербурге 1803 года февраля 23-го в 3-м часу полудня».
Ниже шли его стихи:
Не пышный мрамор сей, нечувственный и бренный,
Супруги, матери скрывает прах бесценный;
Храм добродетели душа ее была.
Мир благочестия и вера в ней жила.
В ней чистая любовь, в ней дружба обитала…
Обручальное кольцо Параши граф Шереметев повесил на свой крест и повелел с ним себя похоронить. Волосы ее были заключены в серебряный ковчежец. С надписью: «И де же дух мой, ту да будут кости мои».