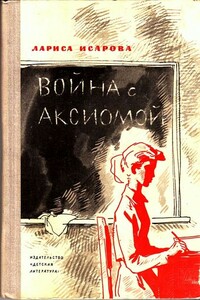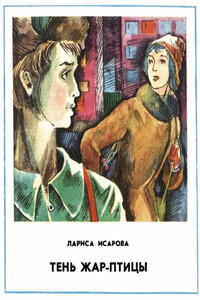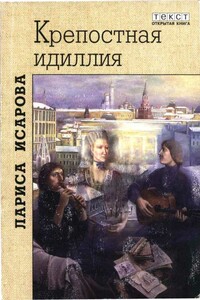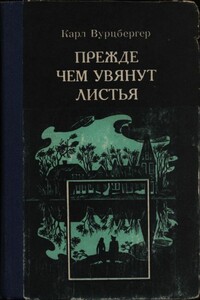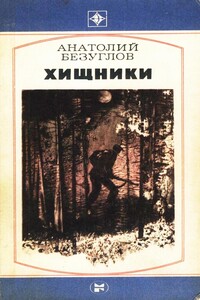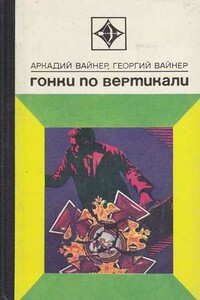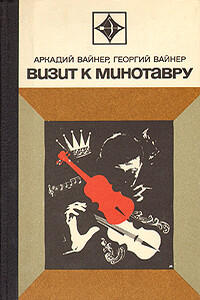В те поры Параша много вышивала и однажды задумала сделать мужу подарок, невянущий, не выгорающий: на его любимый экран, перед которым часто он сиживал в опочивальне, прикрывая им жаркий камин, особой работы вышивку — бисером в прикреп[9]. Картон для работы ей нарисовал Аргунов по ее задумке. В центре картины — вид Останкинского дворца, а по двум верхним углам — два портрета в овалах. Графа Шереметева, высокомерного, в придворном мундире и андреевской ленте. И новой графини — в костюме Элианы. А поверху решила она вышить золотую ленту со словами молитвы, столь часто ею повторяемой: «Наказуя наказа мя господи, смерти же не предаде…»
Работала она с тоской, надежды на чудо, на здоровье совсем не имела, но вышивка получалась яркой, похожей на мозаику, только лица казались мертвыми. И тогда она решила вшить в экран нитку бриллиантов, полученных от графа к свадьбе. Драгоценные камни засверкали на шлеме Элианы, на щите, на запястьях, от камней заблестели глаза в портретах графа и ее, точно живые.
Он об этом не знал, прятала она работу, как приходил, повелела, чтобы Таня Шлыкова отдала Николаю Петровичу Шереметеву сию работу, с такою любовью задуманную, когда сомкнутся ее веки, замрет дыхание и он будет особливо безутешен…
Она гнала дурные мысли, дурные сны, мечтала дать наследника здорового, сильного. Искупить бы невольную вину. Ей казалось, что судьба графа не сложилась из-за нее: не встретил любезной себе среди ровни, запятнал фамилию, многократно прославленную в России.
На южной стороне в правом флигеле Фонтанного помещалась ее спальня и предспальня, окнами в сад. Низ стен загородили панелями, выше устелили бумажными новомодными обоями. Только потолки оставили расписными, как в старину. Через турецкую комнату и «фонарик», обитый красным сукном, граф мог проходить к Прасковье Ивановне, а когда на Петербург пал летний зной силы невиданной, велел построить напротив окон Параши деревянный домик-беседку с двухцветной залой и голубой спальней.
«И остались мгновенья считанные…»
Он ничем не мог заглушить страшные слова. Они гремели в его ушах во сне и наяву. Таился от нее, улыбался, строил планы, но каждый час с ней ценил, как скупец, вздрагивая, видя ее задумчивое лицо, замечая, что таяла, гасла Параша…
Виолончель он забросил, запретил думать о музыке, но, когда осенью Параша иногда наигрывала на гитаре, шевеля губами, у него возникало странное чувство, точно он слышит ее голос, ее песни…
Она улыбалась глазами, а он рассказывал, что отец ее записан в купеческое сословие, брат совсем ополячился. Граф строил великие планы — отпраздновать утаенную свадьбу вместе с крестинами, перестроить дворец, создать новую картинную галерею, даже приглашал для беседы Кваренги, который очень благоговел перед Прасковьей Ивановной…
Граф не замечал, как подурнела жена его. Для него материнство сделало ее еще желанней. Он повелел Аргунову написать ее портрет перед самым сроком, за несколько недель до родов.
Странный портрет. Обтянутое пожелтевшее лицо, маленькое, с кулачок. Плотный чепец, закрывший ее прекрасные вьющиеся волосы. Полосатое, красное с белым, платье выделяло большой живот. Поза напряженная, точно ей трудно стоять на ногах. А взгляд пристальный, безрадостный, сосредоточенный.
Все чаще вспоминался ей князь Таврический. Огромный, как циклоп, неряшливый, равнодушный и к миру и к себе, он точно звал ее за собой во сне, говорил, что все блага мира — суета сует. Он их имел, алкал, жаждал, а потом изнемог под бременем даров, вырванных у судьбы и царицы в неустанных трудах. И понял в последний миг, что ничего человеку не нужно, только бы лежать на волюшке в степи, под бесконечным бархатным небом, чувствовать поглаживание лунных крыльев, которые равнодушно прощались с самым неукротимым и горделивым из персон Российской империи.
В такие минуты она роняла руки на свою вышивку, бисер таял перед глазами, и ей казалось, что прожиты не годы, а столетия и все пережитое разматывается, тянется за ней, как бескрайняя лента…
На графа смотрели теперь новые беспощадные глаза уходящей, но его она жалела, видела все слабости, пороки и прозревала, что лучшие годы Шереметева прошли с ней…
Николай Петрович стал ниже, волосы заснежились. Ничего не осталось от того ферлакура парижского, коим в бытность девчонкой потряслась на всю жизнь, полюбила превыше своей души. Теперь он часто плакал, глаза легко краснели. Он становился неуверенным и спрашивал у нее совета, отбывая ко двору, о своих костюмах, прическе. Интересовало его и мнение Параши о новой книге, а когда выспрашивал ее, не читая оной, писал знакомцам как свое мнение, с ее слов…
Иногда ей хотелось по-матерински прижать его к себе, побаюкать, как ту куклу, свернутую из косынки, которая была в ее тонких руках, когда они впервые увиделись. Но она стыдилась суетных желаний. И только изредка касалась кончиками пальцев его поредевших, мягких как пух волос, когда он целовал ее худые синеватые руки.
Она почти не молилась теперь. Тихо прислушивалась к тому, что происходило в ней самой, да смотрела на цветы, картины. Молитва баюкалась в ней, как ребенок. И не понимала иногда, кому молится. Богу или ему, не родившемуся…