На пороге судьбы - [57]
— И у таких детей была мать — графиня Браницкая! Малограмотная, жадная, она продавала крепостных в розницу из выгоды, дарила ризы священникам и железо для цепей каторжникам, — удивилась я.
— Мой предок от нее отрекся, отказался от состояния, которое она должна была выделить ему, наверное, по воле Потемкина, сам пробивался в жизни.
— Это Ланщиков заинтересовал тебя твоей родословной? — спросила я.
Стрепетов так покраснел, точно я обвинила его в плагиате.
— Может быть. Раньше я пропускал мимо ушей мамины рассказы, а пока лежал в больнице — задумался. Я в ответе и за них, за их ошибки, преступления, жадные радости, безвольное смирение, гонор.
— Тебя это гнетет? — снова спросила я.
Олег неожиданно улыбнулся.
— Нет, я стихийный оптимист, я не умею смотреть в прошлое и лить покаянные слезы. Но моя жизнь должна приносить пользу, понимаете, не только мне, моим близким, но и другим, посторонним, чтобы уравновесить поведение, поступки тех, кто был до меня…
И добавил по-мальчишески восторженно:
— А все-таки контуры жизни маминого прадеда были удивительно причудливы. Сын богатейшей помещицы, непризнанный наследник, потом адвокат в Варшаве, дальше — каторжанин на Нерчинских рудниках. Он создал на Большом Нерчинском заводе кассу взаимопомощи вместе со своими польскими единомышленниками, библиотеку, они разбивали огороды, пробовали новые культуры в Сибири. Еще он обучал местных детей грамоте, языкам, музыке. Среди них и жену нашел.
Мне стало тревожно, когда я посмотрела на Анюту. Ее лицо ничего не умело скрывать, открытое до беззащитности, но Олег ни о чем не догадывался. А она каждое его слово воспринимала как руководство к действию. Однажды он сказал, что милосердие, забытое ныне слово, определяет суть человека, живущего не ради своего желудка или кошелька. Анюта тут же нашла в нашем переулке несколько старых больных ветеранов войны и активно начала их опекать, заставляя даже Мишу Серегина носить им картошку и мыть окна. Сама же два часа в день проводила у них, записывала воспоминания, покупала лекарства и разыскивала их однополчан.
— Интересные судьбы есть в прошлом любой семьи, — продолжал Олег, — надо уметь их найти. И тогда человек не может жить безрадостно, отсюда корни глубинного патриотизма — любовь к старине, в которой были всегда удивительные люди.
Разговор прервался. У Стрепетова было не так много времени на философствование, но его слова я часто потом вспоминала, разговаривая с моими нынешними учениками и их родителями. У них было мало интереса к прошлому родных и близких, некоторые даже удивлялись, когда я заводила беседы на эту тему. Фотоальбомы у большинства обрывались на дедах, бабушках, людях, родившихся в тридцатые годы, а кем были их прадеды и прабабушки, мои ученики знали редко.
Может быть, поэтому я часто вспоминала Ланщикова и его тоску, зависть, что в его «генетике» не было исключительных личностей. Он заявил на выпускном вечере, подойдя ко мне в перерыве, когда школьный ансамбль, им возглавляемый, запросил отдыха.
— Мир разделен на две неравные части. На тех, кто навязывает свою волю и живет, не подчиняясь законам, ими созданным, и тех, кто им верит и подчиняется. Я из первых…
А теперь, вернувшись из колонии, держался странно. Дело было не во внешности. Ушла уверенность, самодовольство, он точно тонул, понимал это и пытался выплыть, но беспомощно, впустую взмахивая руками. И я не понимала, о каких потомках известных фамилий он упомянул, провожая меня из квартиры Лужиной? Была ли тут связь с чтением «Записок правнучки», о которых много говорили в нашем районе?
ЗАПИСКИ ПРАВНУЧКИ
Обычным человеком своего времени был граф Петр Борисович Шереметев. Отца он почти не знал, но память его чтил свято. Он не был иссушающе жаден, но своего не упускал, потому и женился на богатейшей невесте России — Варваре Черкасской. Она принесла ему и добросердечие, и дружбу двора.
Он все имел, о чем мечтают обычные люди, а потому ни к чему не стремился, только тешил свое тщеславие, страшась уронить прославленную фамилию в памяти людей.
Граф Шереметев отличался необыкновенной вежливостью, даже со своими крепостными. Он требовал неукоснительного выполнения своих повелений, не возражал, когда крестьяне величали его «государь наш…», но давал свободу уму любого холопа, поэтому имел в своем владении людей, одаренных разными искусствами. Он не признавал телесных наказаний, но и за равных себе людей их не считал, поэтому и запретил пользоваться колодцем в селе Иванове в холерный год всем жителям, кроме его семьи и приближенных, выставив вокруг охрану. Он знал, что, сколь бы холопов ни перемерло, на его век и даже век сына останется с преизбытком.
Ему казалось поначалу, что явный интерес сына к простой актерке, да еще своей холопке — род лихоманки. Перетерпеть, и пройдет. Но червь начинал точить душу, как вспоминал он о сестрице Наталье, ставшей женой окаянного Долгорукого. В пятнадцать лет его полюбила, в те поры князь был ближайшим другом и наставником во всех проказах императора Петра II. Вот семья фельдмаршала и не противилась девичьей блажи. А как рухнул в одночасье род Долгоруких, попав под тяжелую руку императрицы Анны Иоанновны, отказалась своевольная сестра бросить жениха, обвенчалась и пошла за ним в ссылку. А когда мужа обвинили в новом заговоре и казнили смертью лютой, отправилась с двумя детьми через всю Россию к брату. Одного ребенка схоронила в пути, с другим возникла во дворце, как нищенка, но глаза оставались непреклонными, смелыми, сухими. Оставила племянника дяде и уехала в Киев. Над Днепром постояла, бросила в воду обручальное кольцо и ушла в монастырь мужа непутевого оплакивать, а брату написала, что не себя — его жалеет, так и не узнал он истинного счастья…

Веселая и грустная, живая и непосредственная, она не просто очередной сборник кулинарных рецептов. В ней рассказывается о нашем времени, о людях, которые в трудные годы сумели выстоять, сделать голодную и холодную жизнь хоть немного легче для всех, кто их окружал. Эта книга и о талантах, спрятанных в каждом человеке, и о том, как просто и аппетитно умели питаться наши предки и в будни, и в праздники.С помощью своеобразных кулинарных выдумок и открытий, содержащихся в книге, можно даже при пустых магазинных полках за минимальную сумму накормить близких, доставить им радость.
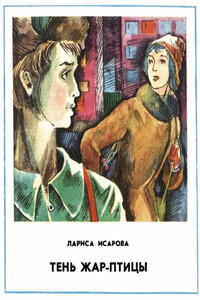
Повесть написана и форме дневника. Это раздумья человека 16–17 лет на пороге взрослой жизни. Писательница раскрывает перед нами мир старшеклассников: тут и ожидание любви, и споры о выборе профессии, о мужской чести и женской гордости, и противоречивые отношения с родителями.
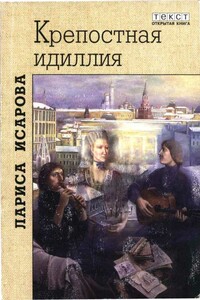
В книгу вошли два романа известной писательницы и литературного критика Ларисы Исаровой (1930–1992). Роман «Крепостная идиллия» — история любви одного из богатейших людей России графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. Роман «Любовь Антихриста» повествует о семейной жизни Петра I, о превращении крестьянки Марты Скавронской в императрицу Екатерину I.

Рассказ из сборника «Итальянская новелла XX века» — продолжение вышедшего в 1960 году сборника «Итальянская новелла, 1860–1914».

В центре нового романа известной немецкой писательницы — женская судьба, становление характера, твердого, энергичного, смелого и вместе с тем женственно-мягкого. Автор последовательно и достоверно показывает превращение самой обыкновенной, во многом заурядной женщины в личность, в человека, способного распорядиться собственной судьбой, будущим своим и своего ребенка.
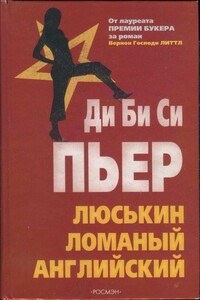
Роман «Люськин ломаный английский» — фантасмагорическая история про двух разделенных сиамских близнецов и девушку Люську, жившую в горах Кавказа и сбежавшую от тяжелой жизни в Англию.Это история о деньгах и их заменителях: сексе и оружии, которое порой стреляет помимо человеческой воли. И о том, что жизнь — это триллер, который вдруг превращается в веселый вестерн.Для тех, кто любит крепкие выражения и правду жизни.

В каждом доме есть свой скелет в шкафу… Стоит лишь чуть приоткрыть дверцу, и семейные тайны, которые до сих пор оставались в тени, во всей их безжалостной неприглядности проступают на свет, и тогда меняется буквально все…Близкие люди становятся врагами, а их существование превращается в поединок амбиций, войну обвинений и упреков.…Узнав об измене мужа, Бет даже не предполагала, что это далеко не последнее шокирующее открытие, которое ей предстоит после двадцати пяти лет совместной жизни. Сумеет ли она теперь думать о будущем, если прошлое приходится непрерывно «переписывать»? Но и Адам, неверный муж, похоже, совсем не рад «свободе» и не представляет, как именно ею воспользоваться…И что с этим делать Мэг, их дочери, которая старается поддерживать мать, но не готова окончательно оттолкнуть отца?..

Ингер Эдельфельдт, известная шведская писательница и художница, родилась в Стокгольме. Она — автор нескольких романов и сборников рассказов, очень популярных в скандинавских странах. Ингер Эдельфельдт неоднократно удостаивалась различных литературных наград.Сборник рассказов «Удивительный хамелеон» (1995) получил персональную премию Ивара Лу-Юхансона, литературную премию газеты «Гётерборгс-постен» и премию Карла Венберга.
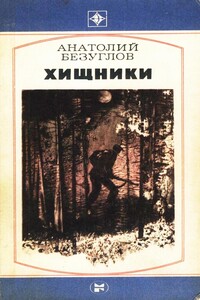
Роман о тех, кто в погоне за «длинным» рублем хищнически истребляет ценных и редких зверей и о тех, кто, рискуя своей жизнью, встает на охрану природы, животного мира.

Традиционный сборник остросюжетных повестей советских писателей рассказывает о торжестве добра, справедливости, мужества, о преданности своей Родине, о чести, благородстве, о том, что зло, предательство, корысть неминуемо наказуемы.
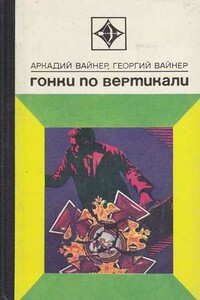
Между следователем Станиславом Тихоновым и рецидивистом Лехой Дедушкиным давняя и непримиримая борьба, и это не просто борьба опытного криминалиста с дерзким и даровитым преступником, это столкновение двух взаимоисключающих мировоззрений.
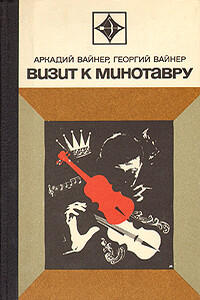
Роман А. и Г. Вайнеров рассказывает читателю о том, как рождались такие уникальные инструменты, как скрипки и виолончели, созданные руками величайших мастеров прошлого.Вторая линия романа посвящена судьбе одного из этих бесценных творений человеческого гения. Обворована квартира виднейшего музыканта нашей страны. В числе похищенных вещей и уникальная скрипка «Страдивари».Работники МУРа заняты розыском вора и самого инструмента. Перед читателем проходит целая галерея людей, с которыми пришлось встречаться героям романа, пока им не удалось разоблачить преступника и найти инструмент.
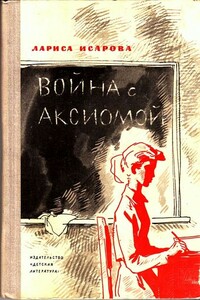


![Электротерапия. Доктор Клондайк [два рассказа]](/storage/book-covers/d8/d84efd2c8d9694f782c81e385d8414b9602f6dab.jpg)