На Алтае - [24]
После таких ночей бывают страшные неурожаи рябчиков; остаются живыми весьма немногие, которые ночевали в снегу где-либо у прутиков кустов или неглубоко забившись в снег, что они нередко и делают в теплое время.
Тут же, в Салаирской черни, добывается осенью и много глухарей, но и они поступают на те же местные рынки, словом, тоже не составляют предмета торговли в обширном смысле этого слова. Оттепели не имеют влияния на эту могучую птицу.
Однажды в Барнауле кто-то купил на базаре глухаря, у которого в зобу нашли порядочный самородок золота. Ясно, что глухарь где-то склюнул его на месторождении этого драгоценного металла. Искали, искали, кем и откуда привезен глухарь, но ничего добиться не могли; так месторождение и осталось тайной.
Что касается рыбного промысла, то и он на Алтае только местный, несмотря на то, что весь этот обширный край прорезывается такой многоводной и рыбной рекой, как Обь с ее большими притоками. Тут водятся все обыкновенные породы рыб, за исключением судака, леща, сома и раков. Такой недостаток не замечается и самыми ярыми гастрономами, потому что в водах Оби ловится в большом количестве знаменитая нельма и таймень. Нельма принадлежит к роду белорыбицы и может вполне составить лакомое блюдо на каком угодно столе. Здесь она употребляется преимущественно в пирогах и разварная. С нею может посоперничать только таймень, но он более редок и потому часто ценится даже дороже нельмы.
Таймени попадают в очень крупных экземплярах и нередко бывают до двух и более пудов, а нельмы достигают до 30–35 и несколько более фунтов. Хорошая жировая нельма называется здесь жировкой и ценится до 20–25 копеек за фунт. Такие экземпляры обыкновенно широки в поперечнике и легко отличаются по виду от тонких и узких, которые называются стрежницами.
Как нельма, так и в особенности таймень, очень бойкие и сильные рыбы, которые и ловятся преимущественно неводами, но попадаются нередко в большом количестве и в заколах, запруженных больших притоках Оби, когда рыба идет в известное на то время.
Плохим, старым неводом трудно удержать большую нельму, а тем более крупного тайменя. Часто случается, что он, причаленный уже к берегу, уходит, так сказать, из рук рыбаков. Он или выскакивает, или забирает мотню в зубы, отходит с нею несколько назад — и вдруг, как пуля, бросается в реку (или «на воду») и, прорывая мотню, уходит не только сам, но выпускает и всю попавшуюся в нее рыбу. Так он пробует иногда до двух и трех раз и, если мотня настолько прочна, что выдержит этот стремительный и сильный удар крупного тайменя, тогда он уже окончательно, так сказать, падает духом и вдруг делается смирным. Недаром рыбаки называют его речным разбойником и говорят, что эта рыбина «сильно воиста». Нередко случается, что, выбирая мотню, находят тайменя с крепко забранной во рту сетью.
Знаменитых забайкальских сазанов также вовсе нет на Алтае, зато часто попадают осетры и в огромном количестве стерляди, затем изредка севрюга и так называемые кострюки; это тоже один из видов красной рыбы. Их почему-то некоторые рыбаки называют «поповской рыбиной»; кострюк далеко не такого вкуса, как стерлядь, а севрюга уступает и этому поповскому блюду.
Очень больших осетров я на Алтае не видал, но экземпляры в 3, 5 и даже 7 пудов встречаются не особенно редко. Они ловятся неводами и так называемыми самоловами. К сожалению, я не специалист рыбного промысла, а потому и не берусь описывать устройство этих последних.
Точно так же ловят и стерлядей — эту «мягкую рыбу», по выражению рыбаков. На самоловы ловят обыкновенно летом, по спаду коренной воды, или когда «обрежется» вода, как говорят. Но главный промысел стерлядей осенью, по замерзанию реки, так называемыми каракшами. Инструмент этот очень напоминает трех или четырехлапчатый якорек, «кошку», где вместо сердцевидных лопаток также загибаются кверху весьма острые зубья или крючки.
Самоловы ставятся почти до самой осени на фарватере реки, а каракшами ловят по затонам, около берегов и на ямах. В последнем случае все дело в том, чтобы отыскать, где остановилась стерлядь, а она останавливается к зиме таким плотным руном и в такой массе, что трудно и вообразить то количество рыбы, которое составляет это руно, или так называемый по-рыбачьи станок. Конечно, рыбаки приблизительно знают такие места, но их на Оби так много, что надо немало труда, чтоб по рекоставу попасть на стерляжий станок. Тут, конечно, как и на всякой охоте, дело навыка, уменья, знания и, пожалуй, главное — счастья, чтоб найти то, что ищешь. Но в деле охоты играют главную роль хорошие собаки, а тут — одно счастье и сметка рыболова.
Вот почему, вскоре по рекоставе, рыбаки ездят по таким притонным местам и бьют пробные лунки или проруби. Но дело в том, что эти притонные места после сильного разлива реки крайне капризны и часто случается так, что где прошлой зимой были затоны, ныне образуются отмели; и совершенно наоборот — затоны и ямы появляются там, где их вовсе и не ожидают.
Пробив пробную прорубь, рыбак спускает каракшу и тихонько пробует ее подергивать. Так как стерляжий станок стоит неподвижно, то, в случае удачи, на зубья каракши попадают стерляди, которые и показывают присутствие станка. Но и тут дело счастья! Обрадованный рыбак тотчас смотрит, какую стерлядь он вытащил — крупную или мелкую.
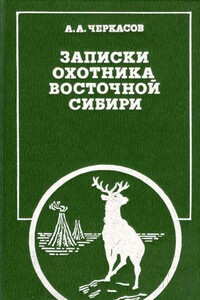
Книга известного русского охотничьего писателя 19 века рассказывает об охотничьих животных и приемах охоты на них. Написанная живым своеобразным языком, книга является не только памятником литературы прошлого века, но и содержит немало полезных для охотника-любителя сведений.Для широкого круга любителей охоты.
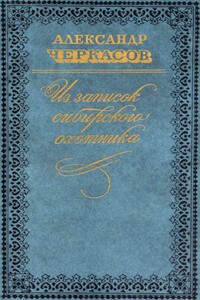
А. А. Черкасов известен как автор «Записок охотника Восточной Сибири». Их неоднократно переиздавали, перевели на французский и немецкий языки. Не менее замечательны и его очерки, но они рассеяны по старым журналам.В этой книге впервые полностью собрана забайкальская часть литературного наследия писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
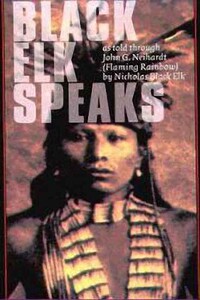
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.
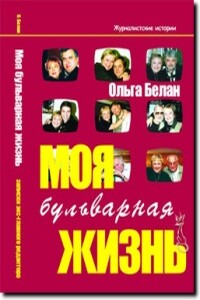
Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».