На Афон - [18]
Ошибаюсь ли я? Посмотрим. Что-то мягкое и ровное, круглое и глубоко // [39] русское мне показалось в этих людях – и с оттенком грусти, отдаленности какой-то. И еще: благообразие. После крика, гама на пристанях, в кофейнях, как приятно видеть людей ровных, ясных, выношенных.
Да, посмотрим. Первое впечатление…
// [40] Проходя часа через два по набережной подробнее рассмотрел шхуну. Она темно-коричневая, хорошо оснащенная, вообще вид ее прочный и основательный (как сильны и прочны были и люди на ней). Приятно было видеть, как резко она выделяется из ряда других суденышек, греческих, // [41] и еще приятнее, уже просто волнительно было прочесть на корме: „Русского Св. Пантелеймона монастыря (полукругом, а внутри) Св. Николай[“]
12 мая. Знаменательный для меня день. На рассвете, поднявшись на палубу, справа вдалеке, сквозь утренний туман уви- // [42] дел едва проступавшую гору, исполински поднявшуюся над морем. Крутизна скатов ее поразила меня. Считал, глядя на рисунок Афонской св.[ятой] Горы, что это преувеличение, но оказывается нисколько. Она выдается из моря похоже на сахарную голову, но в это утро имела вид // [43] почти грозный –
За нею клубились тучи, и ветер развел такую волну, что пока я любовался на Гору, меня раза два взбрызнуло соленой и прохладной водой. В третий раз обдало так, что я принужден был сойти в каюту. Точно бы Афон говорил: „я не шутка“. В самом деле, такой // [44] качки не было еще нигде за почти недельное пребывание на море. В каюте пришлось пробыть почти до самой „выгрузки“ в заливчике Дафни[146]. Там на лодке подплыл русский монах, худой, высокий со светлыми глазами, лицом в морщинах, русскою бородой и удивительною добро- // [45] тою взгляда – отец Петр. К сожалению, он не мог везти меня прямо в монастырь – предварительно непременно надо побывать в Карее, админ.[истративном] центре Афона, и получить от греч.[еского] управления паспорт.
– Святое имя ваше, спросил монах ласково
– А, Борис, хорошо, Борис, – как будто действитель- // [46] но что-то особенно хорошее есть в том, что я Борис.
О. Петр (так его звали) устроил мне мула. (Когда он подъезжал на своей лодке, потом придерживая полы кафтана, ловко и быстро бросал якорь с кормы – что-то от Петра Апостола даже в нем можно было почувствовать).
// [47] На мула я сел с особо приготовленной приступочки.
– Ничего, сказал о. Петр. – И Митрополиту Антонию[147] пришлось на таком же муле путешествовать.
Путешествие удивительное. Ветер все сильней задувал, мул мирно шел по каменистой тропинке, вслед за другим, на кот.[ором] была чья-то поклажа (мои // [48] вещи о. Петр взял с собою в лодку). Дикие горы, леса, кипарисы, кедры, буря, желтые дроки, свешивающиеся к самой дороге, горный поток, летящий у монастыря Ксиропотама[148] отвесной струей, самый монастырь, старинный, молчаливый, с кипарисами и тополями, маками… По временам руки совсем // [49] замерзают. На хребте горы, слава Богу, лес, не так ветрено. Путь, путь, одинокой лесной тропинкой, по скользким, иногда острым камням – и мы начинаем спускаться в Карею. Грек показывает мне „кунак“ (подворье Пант.[елеимонова] монастыря). Внизу едва видно пенно-кипучее море, // [50] в тяжких пеленах туч, сквозь полу-дождь, полу-туман. Слава Богу, что во время доехали, но у меня все время, как и в море, было такое ощущение не своей воли и власти, что я просто и не думал ни о чем. Ну, мог мул оступиться и кувырнуть меня под откос, ну // [51] могла быть буря (между проч.[им], я это предчувствовал; мне давно казалось, что когда я буду подъезжать к Афону, будет непогода. И даже есть объяснение… Тоже, чтобы серьезнее принял, да и достоин-ли, это вопрос. Так что все должно происходить, как надо.
// [52] Игумен Андр.[еевского] Скита[149] о. Митрофан.
[Рисунок: ] Светильня в моей комнате в Кунаке (подворье) Пантелеймоновского монастыря.
«Светильня в моей комнате…» (Записная книжка. л. 52.)
Антипросоп.
„Гурья“ – тот ветер, который принес нам этот ужасный туман и дождь.
Не только нельзя быть на Афоне женщи- // [53] нам, но и безбородым юношам (все-таки, последнее не соблюдается).
[Продолжение записи 12 мая].
Кунак Пантелеймоновского монастыря. Большой двухэтажный дом с широченным коридором. (Отцы Мина, Иван, Никанор [?]. Все то же неизменное афонское благо-добро-душие. Визит // [54] к начальнику полиции – ведет меня отец Иван – рыжеватый, полнощекий, быстро-говорящий монах. Начальника нет. Заходим в (кафе!) Картина в нем: волки гонятся за уносящейся тройкой, последний винокур, виды Афонской горы, и др.[угие] Возвращаемся. Меня проводят наверх. Во втором этаже // [55] парадные комнаты для приезжающих, большая как бы аванзала с удивительными часами, циферблат и маятник которых сплошь в разноцветных камешков [sic!]. На огромной крытой стеклянной галерее, выступающей из стен дома, диваны, фотографии, стол с букетом чудных роз. Виден сад и кусты роз в нем. // [56] Мне отводят комнату с тремя постелями. О. Мина седоватый южанин из под Херсона, приносит завтрак: суп из риса, довольно вкусный, и рыбу со стручками – это невыносимо и несъедобно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В двухтомник вошли произведения замечательного русского писателя, проведшего большие годы своей жизни вне России. Их отличает яркий образный лиризм, глубокий поиск нравственного начала, определяющего поступки героев.Среди них роман "Голубая звезда" и повести "Странное путешествипе" и "Преподобный Сергий…", повесть "Братья-Писатели" и главы из книги "Москва", посвященной воспоминаниям о писателях-современниках.И творческое завещание писателя, прожившего очень долгую жизнь, "Старые-молодым", обращенное к советской молодежи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
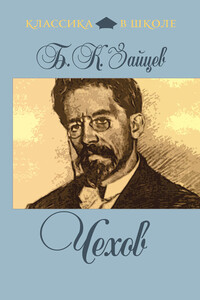
Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все произведения, изучаемые в начальной, средней и старшей школе. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.В книгу включена повесть Б. К. Зайцева «Чехов», которую изучают в старших классах.
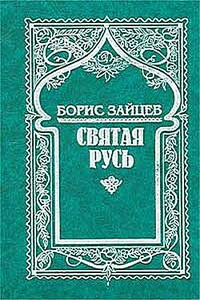
В седьмой том собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) вошли житийное повествование «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), лирические книги его паломнических странствий «Афон» (1928) и «Валаам» (1936), религиозные повести и рассказы, а также очерки из «Дневника писателя», посвященные истории, развитию и традициям русской святости. Монахи, оптинские старцы, странники и блаженные, выдающиеся деятели церкви и просто русские православные люди, волею судьбы оторванные от России, но не утратившие духовных связей с нею, — герои этой книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Митрополитом был поставлен тогда знаменитый Макарий, бывший дотоле архиепископом в Новгороде. Этот ученый иерарх имел влияние на вел. князя и развил в нем любознательность и книжную начитанность, которою так отличался впоследствии И. Недолго правил князь Иван Шуйский; скоро место его заняли его родственники, князья Ив. и Андрей Михайловичи и Феодор Ив. Скопин…».
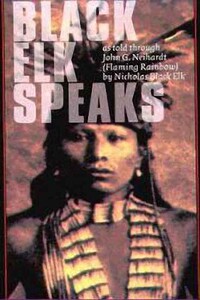
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.
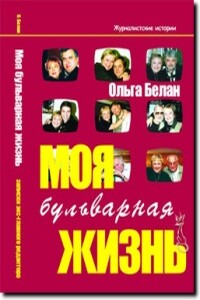
Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.