Н. В. Гоголь - [2]
Как странно, напр., читать в письмах «По поводу „Мертвых душ“» (в «Выбранных местах из переписки с друзьями») приглашение Гоголя сообщать ему разные факты действительной жизни, чтобы этим показать ошибочность или неправду нарисованных в «М. д.» картин! В наивном обращении к русским людям по этому поводу[1] Гоголь как будто ожидал, что эти отдельные факты могут ослабить значение того, что дают различные сцены в «М. д.», — словно такое сопоставление может
194
что-либо дать. Позже Гоголь признавал, что в «М. д.» отразилось его собственное «переходное» состояние, — но разве в его образах, в его повествовании не действовала чисто художественная диалектика? Творчество Гоголя всегда было внутренне свободным, т. е. следовало его художественным интуициям и подчинялось лишь имманентной диалектике художественного творчества. При чем же тут «переходное» состояние автора? Ни о каком «давлении» тех или иных идей или размышлений автора на творчество не приходится говорить; значит дело идет о чем-то другом. «Переходное состояние» Гоголя только потому им осознавалось как бы имевшим влияние на творческий процесс, что само творчество его было более сложным, чем это казалось ему. С особенной ясностью это выступает при изучении того, что называется «реализмом» Гоголя и что на самом деле, как мы постараемся показать в главе посвященной Гоголю как художнику, раздвигает и усложняет самое понятие реализма у Гоголя.
Очень характерна в этом отношении часто встречающаяся у Гоголя дидактическая тенденция, стремление его направить внимание читателя на те или иные моменты в рассказе, которые без нарочитого вмешательства автора были бы совсем иначе восприняты читателем. Эта дидактическая тенденция, как будто извне привнесенная автором, совсем не означает сосуществования двух разнородных императивов в творчестве, а, наоборот, показывает сложность творческого процесса, многослойность в том, что он преподносит читателю. В качестве примера этого приведем ту знаменитую страницу в «Шинели», где в словах Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — одному (недавно определившемуся) чиновнику послышались другие слова: «Я брат твой». Эти слова кажутся так мало связанными с общей характеристикой Акакия Акакиевича, что невольно рождается мысль, что они родились не от чисто художественного процесса, а были привнесены в силу каких-то внехудожественных мотивов — быть может, от моралистических соображений автора. Действительно, самый портрет Акакия Акакиевича нарисован так остро и едко, можно сказать, беспощадно, почти зло, что сразу трудно понять, зачем здесь вставлена фраза о том, что он «брат» наш. Жалкое, забитое существо во всем рассказе выступает с какой-то беспросветной тупостью (даже когда он «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, то ел все это с мухами»), — и во всем описании как будто нет и тени того «братского» отношения, которое выдвинуто самим же автором. Его слова о том, что Акакий Акакиевич наш «брат», звучат отвлеченно, точно взяты из какой-то прописи, и так мало вяжутся с тем, что говорит автор о Башмачкине. Не он ли подобрал — явно нарочито — все черты не только забитости Акакия Акакиевича, но и ничтожества его? Не автор ли подчеркнул, что Акакий Акакиевич знал только одну радость — переписывать бумаги, причем, «когда он добирался до буквы, которая была его фаворитом, то он был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами». «Ни одного раза в жизни не обратил он внимания на то, что делается на улице... если на что он и глядел, то видел во всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки...» Все это сказано с такой беспощадностью,
195
что, кажется, нечего и жалеть Акакия Акакиевича... Да, но в описании того, как переживал Акакий Акакиевич шитье своей шинели, все отношение его к шинели, по удачному выражению Чижевского, «изображено языком эроса». Когда Акакий Акакиевич стал копить деньги, чтобы оплатить шитье новой шинели, то он «приучился голодать по вечерам и зато питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор как будто самое существование его стало полнее, как будто он женился, как будто он был не один, а какая-то подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другой, как та же шинель...» И так же верно замечание Чижевского, что «гибнет Акакий Акакиевич, собственно говоря, от любви», в силу страстного увлечения все той же шинелью, которая и сбила Акакия Акакиевича с толку.
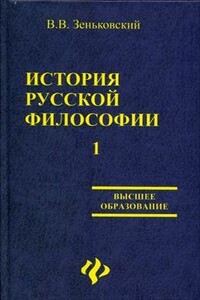
Обзор российской философии от Сковороды до Леонтьева и Розанова.«Мне могут сделать упрек в том, что я не только излагаю и анализирую построения русских философов, но и связываю эти построения с общими условиями русской жизни. Но иначе историк — и особенно историк философской мысли — поступать не может. Насколько в русской философии, несмотря на ее несомненную связь и даже зависимость от западно-европейской мысли, развились самостоятельные построения, они связаны не только с логикой идей, но и с запросами и условиями русской жизни.

Апологетика, наука о началах, излагающих истины христианства.Книга протоиерея В. Зеньковского на сайте Свято-Троицкой Православной школы предлагается учащимся в качестве учебника.Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962), русский православный богослов, философ, педагог; священник (с 1942). С 1919 в эмиграции, с 1926 профессор в Париже.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга В.В.Зеньковского - одного из крупнейших русских философов и богословов первой половины XX в. Его труды в области философии, богословия, психологии и педагогики оставили заметный след в русской культуре. Настоящее издание включает в себя две работы Зеньковского - "Основы христианской философии" и "Апологетика". Первая книга выходила в России очень малым тиражом, а вторая не издавалась вообще.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
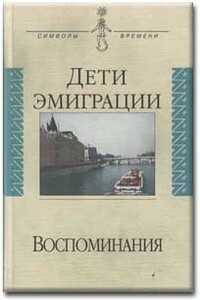
Книга «Дети эмиграции», впервые изданная в 1925 году в Праге, является потрясающим свидетельством трагической истории революционной России. В ней содержится анализ сочинений детей из эмигрантских гимназий на тему «Что я помню о России», проведенный деятелями зарубежного Педагогического Бюро по Делам Молодежи, которое возглавлял знаменитый русский философ В. В. Зеньковский.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».