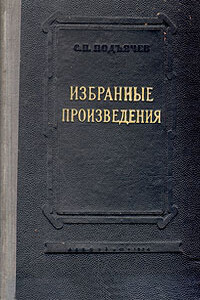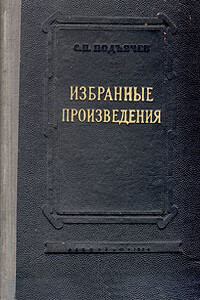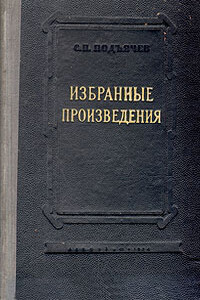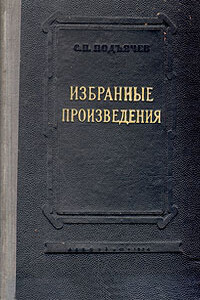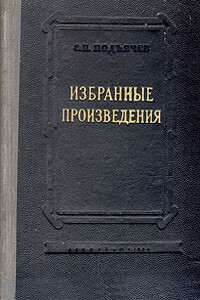— Всего бывало, — отвѣтилъ онъ, улыбаясь, — жилъ и жизнь изжилъ… Теперича мнѣ три тесницы да поверхъ крышку, болѣ ничего и не надо!… Такъ-то, землячокъ!… На-ка-сь, курни… Чай, табачишку-то нѣту?..
Въ окнахъ начало свѣтлѣть… Пришелъ ламповщикъ съ двумя привязанными къ боку на веревкѣ «ершами» и задулъ лампы… Въ столовой сдѣлался полумракъ… Гулъ голосовъ какъ будто нѣсколько стихъ… Люди, сидѣвшіе на скамейкахъ за столами, спали, положа на нихъ головы… Не имѣвшіе мѣстъ, — а такихъ было большинство, — топтались въ этой полутьмѣ, какъ напуганное стадо овецъ…
Стало совсѣмъ свѣтло… День начинался ведренный, морозный. Солнечный ослѣпительно яркій свѣтъ проникъ всюду, и при этомъ освѣщеніи картина получилась еще печальнѣе… Вся нагота, грязь, рвань, выплыли на свѣтъ, въ настоящемъ своемъ видѣ, застланныя только дымомъ махорки…
Я нигдѣ не видывалъ, чтобы такъ много и жадно курили, какъ здѣсь… Къ обмусленному, жгущему уже губы, брошенному на полъ окурку бросалось нѣсколько человѣкъ разомъ, стараясь завладѣть имъ и хоть какъ-нибудь, рискуя обжечь губы, затянуться, или, какъ здѣсь говорили, «хватить» разочекъ…
Особенно запомнился мнѣ одинъ чахоточный: желтый, высокій и худой, какъ скелетъ. Обернувшись лицомъ въ уголъ, онъ жадно глоталъ, втягивая щеки, табачный дымъ… Глотнетъ разъ-другой, боязливо обернется, посмотритъ кругомъ, какъ затравленный волкъ, идіотскими мутными глазами и опять, обернувшись въ уголъ, жадно и часто начинаетъ глотать!… что-то до того отталкивающее, страшное и вмѣстѣ жалкое было въ фигурѣ этого согнувшагося, чахоточнаго человѣка, что я до сей поры не могу забыть его… Фигура эта такъ и стоитъ у меня передъ глазами, какъ живая, во всей своей отталкивающе ужасной наготѣ!..
Время шло безконечно медленно… Отъ непрестаннаго гула и шума кружилась голова… Тѣло чесалось и горѣло, какъ въ огнѣ… Изъ шерсти полушубка на чистую холщевую рубаху выползли насѣкомыя въ такомъ множествѣ, что я струсилъ, зная, что избавиться отъ нихъ нѣтъ никакой возможности…
— Что, землячокъ, это, видать, не у жонки на печкѣ,- сказалъ, улыбаясь, какой-то мужикъ, чернобородый, какъ жукъ. — Такъ намъ и надо!… За дѣло!… Часъ мы себя тѣшимъ, а годъ чешемъ… Такъ-то!… Да, братъ, ихъ въ этой самой шерсти-то можетъ сила… лопатой греби!… Самъ посуди, какъ не быть то: я поношу — оставлю, ты поносишь — оставишь, такъ оно колесо и идетъ… Кабы ихъ, полушубки-то, прожаривать, ну тогда дѣло десятое… а то ему износу нѣтъ!… Разорвалъ ты примѣрно… Клокъ выдралъ… Сичасъ на этотъ самый клокъ заплату приляпаютъ… Готово дѣло!… Такъ заплату на заплату и сажаютъ… Въ Москвѣ вонъ, когда на работу идешь, все новое даютъ: полушубокъ, валенки, рукавицы… Неловко тамъ-то: господа ходятъ, начальство… Ну, а здѣсь нашего брата замѣстъ собакъ почитаютъ.
— Ох-хо-хо, — продолжалъ онъ печально, — горе наше насъ сюда гонитъ, а главная причина — слабость къ винному дѣлу… Я вотъ кузнецъ… На волѣ-то каки деньги заколачивалъ, а тутъ вотъ пятыя сутки безъ дѣловъ и уйти нельзя: до гашника пропился… Бить насъ надо, кнутомъ жучить, чтобы помнили… Да!..
Онъ вдругъ остановился, послушалъ и сказалъ:
— Никакъ запѣли?. Такъ и есть! Вечоръ тутъ двое какихъ-то стрюцкихъ, должно изъ лягавыхъ, важно пѣли… Надо полагать, это опять они?.. Пойдемъ, послушаемъ.
Народъ, какъ волна, хлынулъ въ другое отдѣленіе столовой, откуда доносилось пѣніе. Мы тоже прошли туда, въ самый дальній уголъ, около стѣны. Народъ сплошной массой окружалъ это мѣсто… Черезъ головы толпы я увидалъ сидѣвшихъ на скамейкѣ двухъ какихъ-то субъектовъ…
Одинъ былъ пожилой, худощавый, съ длинными волосами, съ горбатымъ носомъ. Другой — совсѣмъ еще молодой, почти мальчикъ, бѣлокурый и румяный, съ круглыми на выкатѣ глазами.
Пропѣвъ что-то не громко, какъ будто налаживаясь, они замолчали, посмотрѣли на толпу, перешепнулись о чемъ-то и вдругъ, какъ-то сразу, старшій махнулъ рукой и запѣлъ могучимъ и чистымъ басомъ. Къ нему сейчасъ же присталъ молодой съ своимъ теноромъ и полились чистые, тоскливые, такъ и рѣзанувшія по сердцу слова неизвѣстно кѣмъ сочиненной пѣсни:
«Ахъ ты, доля, ахъ ты, доля,
Доля бѣдняка,
Тяжела ты безотрадна,
Тяжела-горька»!..
Казалось, что эти рыдающіе звуки шли не изъ темнаго угла столовой, а падали откуда-то сверху отчаяннымъ дождемъ слезъ. Какъ будто невѣдомая болѣзненно-жуткая скорбь перенесла въ эту столовую всю тоску и горе забитаго, обездоленнаго люда…
«Не твою-ли, бѣднякъ, хату
Вѣтеръ пошатнулъ?
Съ крыши ветхую солому
Поразнесъ, раздулъ»…
Всѣ слушали, затаивъ дыханіе, не шевелясь… Пѣсня лилась широкою волною… Этотъ жалобный вопль, мольба, стонъ и плачъ какъ будто расширили столовую своимъ безбрежнымъ отчаяніемъ. Жутко было слушать… Жутко и сладко… Люди стояли молча, вперивъ глаза въ пѣвцовъ, и не одна, думаю, грудь колебалась отъ мучительныхъ рыданій и не одно сердце ныло, плакало и горѣло огнемъ мучительныхъ воспоминаній о лучшей, давно прошедшей, закиданной грязью, залитой сивухой, жизни…
Я слушалъ, глотая слезы, и передо мной быстро и ярко проносились картины за картиной… Точно какое-то огромное окно вдругъ открылось передъ глазами, и я глядѣлъ въ это окно, вновь переживая то, что было такъ давно и что прошло, прошло навсегда!..